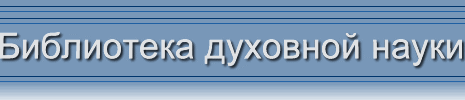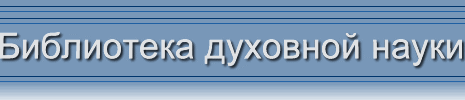Горнист
Когда бутылку подношу к губам,
чтоб чисто выпить, похмелиться чисто,
я становлюсь похожим на горниста
из гипса, что стояли тут и там
по разным пионерским лагерям,
где по ночам - рассказы про садистов,
куренье,
чтенье "Графов Монте-Кристов"...
Куда теперь девать весь этот хлам,
всё это детство с муками и кровью
из носу, чёрт-те знает чьё
лицо с надломленною бровью,
вонзённое в перила лезвиё,
всё это обделённое любовью,
всё это одиночество моё?
* * *
Господи, это я
мая второго дня.
- Кто эти идиоты?
Это мои друзья.
На берегу реки
водка и шашлыки,
облака и русалки.
Э, не рви на куски.
На кусочки не рви,
мерзостью назови,
ад посули посмертно,
но не лишай любви
високосной весной,
слышь меня, основной!
- Кто эти мудочёсы?
Это - со мной!
* * *
Ничего не надо, даже счастья
быть любимым, не
надо даже тёплого участья,
яблони в окне.
Ни печали женской, ни печали,
горечи, стыда.
Рожей - в грязь, и чтоб не поднимали
больше никогда.
Не вели бухого до кровати.
Вот моя строка:
без меня отчаливайте, хватит
- небо, облака!
Жалуйтесь, читайте и жалейте,
греясь у огня,
вслух читайте, смейтесь, слёзы лейте.
Только без меня.
Ничего действительно не надо,
что ни назови:
ни чужого яблоневого сада,
ни чужой любви,
что тебя поддерживает нежно,
уронить боясь.
Лучше страшно, лучше безнадежно,
лучше рылом в грязь.
* * *
Не во гневе, а так, между прочим
наблюдавший средь белого дня,
когда в ватниках трое рабочих
подмолотами били меня.
И тогда не исполнивший в сквере,
где искал я забвенья в вине,
чтобы эти милиционеры
стали не наяву, а во сне.
Это ладно, всё это детали,
одного не прощу тебе, ты,
блин, молчал, когда девки бросали
и когда умирали цветы.
Не мешающий спиться, разбиться,
с голым торсом спуститься во мрак,
подвернувшийся под руку птица,
не хранитель мой ангел, а так.
Наблюдаешь за мною с сомненьем,
ходишь рядом, урчишь у плеча,
клюв повесив, по лужам осенним
одинокие крылья влача.
* * *
А.П. Сидорову, наркологу
Синий свет в коридоре больничном,
лунный свет за больничным окном.
Надо думать о самом обычном,
надо думать о самом простом.
Третьи сутки ломает цыгана,
просто нечем цыгану помочь.
Воду ржавую хлещешь из крана,
и не спится, и бродишь всю ночь
коридором больничным при свете
синем-синем, глядишь за окно.
Как же мало ты прожил на свете,
неужели тебе всё равно?
(Дочитаю печальную книгу,
что забыта другим впопыхах.
И действительно музыку Грига
на вставных наиграю зубах.)
Да, плевать, но бывает порою...
Всё равно, но порой, иногда
я глаза на минуту закрою,
и открою потом, и тогда,
обхвативши руками коленки,
размышляю о смерти всерьёз,
тупо пялясь в больничную стенку
с нарисованной рощей берёз.
* * *
С антресолей достану "ТТ",
покручу-поверчу -
я ещё поживу и т.д.,
а пока не хочу
этот свет покидать, этот свет,
этот город и дом.
Хорошо, если есть пистолет,
остальное - потом.
Из окошка взгляну на газон
и обрубок куста.
Домофон загудит, телефон
зазвонит - суета.
Надо дачу сначала купить,
чтобы лес и река
в сентябре начинали грустить
для меня дурака.
чтоб летели кругом облака.
Я о чём? Да о том:
облака для меня дурака.
А ещё, а потом,
чтобы лес золотой, голубой
блеск реки и небес.
Не прохладно проститься с собой
чтоб - в слезах, а не без.
* * *
Не надо ничего,
оставьте стол и дом
и осенью, того,
рябину за окном.
Не надо ни хрена -
рябину у окна
оставьте, ну и на
столе стакан вина.
Не надо ни .ера,
помимо сигарет,
и чтоб включал с утра
Вертинского сосед.
Пускай о розах, бля,
он мямлит из стены -
я прост, как три рубля,
вы лучше, вы сложны.
Но право, стол и дом,
рябину, боль в плече,
и память о былом,
и вообще, вобще.
* * *
Я по листьям сухим не бродил
с сыном за руку, за облаками,
обретая покой, не следил,
не аллеями шёл, а дворами.
Только в песнях страдал и любил.
И права, вероятно, Ирина -
чьи-то книги читал, много пил
и не видел неделями сына.
Так какого же чёрта даны
мне неведомой щедрой рукою
с облаками летящими сны,
с детским смехом, с опавшей листвою.
* * *
Осыпаются алые клёны,
полыхают вдали небеса,
солнцем розовым залиты склоны -
это я открываю глаза.
Где и с кем, и когда это было,
только это не я сочинил:
ты меня никогда не любила,
это я тебя очень любил.
Парк осенний стоит одиноко,
и к разлуке и к смерти готов.
Это что-то задолго до Блока,
это мог сочинить Огарёв.
Это в той допотопной манере,
когда люди сгорали дотла.
Что написано, по крайней мере
в первых строчках, припомни без зла.
Не гляди на меня виновато,
я сейчас докурю и усну -
полусгнившую изгородь ада
по-мальчишески перемахну.
* * *
Не покидай меня, когда
горит полночная звезда,
когда на улице и в доме
всё хорошо, как никогда.
Ни для чего и ни зачем,
а просто так и между тем
оставь меня, когда мне больно,
уйди, оставь меня совсем.
Пусть опустеют небеса.
Пусть станут чёрными леса.
пусть перед сном предельно страшно
мне будет закрывать глаза.
Пусть ангел смерти, как в кино,
то яду подольёт в вино,
то жизнь мою перетасует
и крести бросит на сукно.
А ты останься в стороне -
белей черёмухой в окне
и, не дотягиваясь, смейся,
протягивая руку мне.
* * *
Эля, ты стала облаком
или ты им не стала?
Стань девочкою прежней
с белым бантом,
я - школьником,
рифмуясь с музыкантом,
в тебя влюблённым и в твою подругу,
давай-ка руку.
Не ты, а ты, а впрочем, как угодно -
ты будь со мной всегда, а ты свободна,
а если нет, тогда меняйтесь смело,
не в этом дело.
А дело в том, что в сентября начале
у школы утром ранним нас собрали,
и музыканты полное печали
для нас играли.
И даже, если даже не играли,
так, в трубы дули, но не извлекали
мелодию, что очень вероятно,
пошли обратно.
А ну назад, где облака летели,
где, полыхая, клёны облетели,
туда, где до твоей кончины, Эля,
ещё неделя.
Ещё неделя света и покоя,
и ты уйдёшь вся в белом в голубое,
не ты, а ты с закушенной губою
пойдёшь со мною
мимо цветов, решёток, в платье строгом
вперёд, где в тоне дерзком и жестоком
ты будешь много говорить о многом
со мной, я - с богом.
г. Екатеринбург
* * *
Кейсу Верхейлу, с любовью
Где обрывается память, начинается старая фильма,
играет старая музыка какую-то дребедень.
Дождь прошел в парке отдыха, и не передать, как сильно
благоухает сирень в этот весенний день.
Сесть на трамвай 10-й, выйти, пройти под аркой
сталинской: все как было, было давным-давно.
Здесь меня брали за руку, тут поднимали на руки,
в открытом кинотеатре показывали кино.
Про те же самые чувства показывало искусство,
про этот самый парк отдыха, про мальчика на руках.
И бесконечность прошлого, высвеченного тускло,
очень мешает грядущему обрести размах.
От ностальгии или сдуру и спьяну можно
подняться превыше сосен, до самого неба на
колесе обозренья, но понять невозможно:
то ли войны еще не было, то ли была война.
Всё в черно-белом цвете, ходят с мамами дети,
плохой репродуктор что-то победоносно поет.
Как долго я жил на свете, как переносил все эти
сердцебиенья, слезы, и даже наоборот.
* * *
Из школьного зала -
в осенний прозрачный покой.
О, если б ты знала,
как мне одиноко с тобой…
Как мне одиноко,
и как это лучше сказать:
с какого урока
в какое кино убежать?
С какой перемены
в каком направленье уйти?
Со сцены, со сцены,
со сцены, со сцены сойти.
* * *
Мальчишкой в серой кепочке остаться,
самим собой, короче говоря.
Меж правдою и вымыслом слоняться
по облетевшим листьям сентября.
Скамейку выбирая, по аллеям
шататься, ту, которой навсегда
мы прошлое и будущее склеим.
Уйдем, вернемся именно сюда.
Как я любил унылые картины,
посмертные осенние штрихи,
где в синих лужах ягоды рябины,
и с середины пишутся стихи.
Поскольку их начало отзвучало,
на память не оставив ничего.
Как дождик по карнизу отстучало,
а может, просто не было его.
Но мальчик был, хотя бы для порядку,
что проводил ладонью по лицу,
молчал, стихи записывал в тетрадку,
в которых строчки двигались к концу.
* * *
И огни светофоров,
и скрещения розовых фар.
Этот город, который
четче, чем полуночный кошмар.
Здесь моя и проходит
жизнь с полуночи и до утра.
В кабаках ходят-бродят
прожектора.
В кабаке твои губы
ярче ягод на том берегу.
И белей твои зубы
тех жемчужин на талом снегу.
Взор твой ярок и влажен,
как чужой и неискренний дар.
И твой спутник не важен
в свете всех светофоров и фар.
Ну-ка, стрелку положим,
станем тонкою струйкой огня,
чтоб не стало, положим,
ни тебя, ни меня.
Ни тебя, ни меня, ни
голубого дождя из-под шин -
в голубое сиянье
милицейских машин.
* * *
Давай, стучи, моя машинка,
неси, подруга, всякий вздор,
о нашем прошлом без запинки,
не умолкая, тараторь.
Рассказывай, моя подруга,
тебе, наверно, сотня лет,
прошла через какие руки,
чей украшала кабинет?
Торговца, сыщика, чекиста -
ведь очень даже может быть,
отнюдь не все с тобою чисто
и этих пятен не отмыть.
Покуда литеры стучали,
каретка сонная плыла,
в полупустом полуподвале
вершились темные дела.
Тень на стене чернее сажи
росла и, уменьшаясь вновь,
не перешагивала даже
через запекшуюся кровь.
И шла по мраморному маршу
под освещеньем в тыщу ватт
заплаканная секретарша,
ломая горький шоколад.
* * *
Снег за окном торжественный и гладкий,
пушистый, тихий.
Поужинав, на лестничной площадке
курили психи.
Стояли и на корточках сидели
без разговора.
Там, за окном, росли большие ели -
деревья бора.
План бегства из больницы при пожаре
и всё такое.
...Но мы уже летим в стеклянном шаре.
Прощай, земное!
Всем всё равно куда, а мне - подавно,
куда угодно.
Наследственность плюс родовая травма -
душа свободна.
Так плавно, так спокойно по орбите
плывет больница.
Любимые, вы только посмотрите
на наши лица!
* * *
Ничего не надо, даже счастья
быть любимым, не
надо даже тёплого участья,
яблони в окне.
Ни печали женской, ни печали,
горечи, стыда.
Рожей - в грязь, и чтоб не поднимали
больше никогда.
Не вели бухого до кровати.
Вот моя строка:
без меня отчаливайте, хватит
- небо, облака!
Жалуйтесь, читайте и жалейте,
греясь у огня,
вслух читайте, смейтесь, слёзы лейте.
Только без меня.
Ничего действительно не надо,
что ни назови:
ни чужого яблоневого сада,
ни чужой любви,
что тебя поддерживает нежно,
уронить боясь.
Лучше страшно, лучше безнадежно,
лучше рылом в грязь.
* * *
В безответственные семнадцать,
только приняли в батальон,
громко рявкаешь: рад стараться!
Смотрит пристально Аполлон:
ну-ка, ты, забобень хореем.
Парни, где тут у вас нужник?
Все умеем да разумеем,
слышим музыку каждый миг.
Музыкальной неразберихой
било фраера по ушам.
Эта музыка стала тихой,
тихой-тихой та-ра-ра-рам.
Спотыкаюсь на ровном месте,
беспокоен и тороплив:
мы с тобою погибнем вместе,
я держусь за простой мотив.
Это скрипочка злая-злая
на плече нарыдалась всласть.
Это частная жизнь простая
с вечной музыкой обнялась.
Это в частности, ну а в целом
оказалось, всерьёз игра.
Было синим, а стало белым,
белым-белым та-ра-ра-ра.
* * *
Отполированный тюрьмою,
ментами, заводским двором,
лет десять сряду шел за мною
дешёвый урка с топором.
А я от встречи уклонялся,
как мог от боя уходил:
он у парадного слонялся -
я через чёрный выходил.
Лет десять я боялся драки,
как всякий мыслящий поэт.
...Сам выточил себе нунчаки
и сам отлил себе кастет.
Чуть сгорбившись, расслабив плечи,
как гусеничный вездеход,
теперь иду ему навстречу -
и расступается народ.
Окурок выплюнув, до боли
табачный выдыхаю дым,
на кулаке портачку "Оля"
читаю зреньем боковым.
И что ни миг, чем расстоянье
короче между ним и мной,
тем над моею головой
очаровательней сиянье.
Баллада
На Урале в городе Кургане
в День шахтёра или ПВО
направлял товарищ Каганович
револьвер на деда моего.
Выходил мой дед из кабинета
в голубой, как небо, коридор.
Мимо транспарантов и портретов
ехал чёрный импортный мотор.
Мимо всех живых, живых и мёртвых,
сквозь леса, и реки, и века.
А на крыльях выгнутых и чёрных
синим отражались облака.
Где и под какими облаками,
наконец, в каком таком дыму,
бедный мальчик, тонкими руками
я его однажды обниму?
* * *
А иногда отец мне говорил,
что видит про утиную охоту
сны с продолженьем: лодка и двустволка.
И озеро, где каждый островок
ему знаком. Он говорил: не видел
я озера такого наяву
прозрачного, какая там охота! -
представь себе... А впрочем, что ты знаешь
про наши про охотничьи дела!
Скучая, я вставал из-за стола
и шёл читать какого-нибудь Кафку,
жалеть себя и сочинять стихи
под Бродского, о том, что человек,
конечно, одиночество в квадрате,
нет, в кубе. Или нехотя звонил
замужней дуре, любящей стихи
под Бродского, а заодно меня -
какой-то экзотической любовью.
Прощай, любовь! Прошло десятилетье.
Ты подурнела, я похорошел,
и снов моих ты больше не хозяйка.
Я за отца досматриваю сны:
прозрачным этим озером блуждаю
на лодочке дюралевой с двустволкой,
любовно огибаю камыши,
чучела расставляю, маскируюсь
и жду, и не промахиваюсь, точно
стреляю, что сомнительно для сна.
Что, повторюсь, сомнительно для сна,
но это только сон и не иначе,
я понимаю это до конца.
И всякий раз, не повстречав отца,
я просыпаюсь, оттого что плачу.
* * *
Осыпаются алые клёны,
полыхают вдали небеса,
солнцем розовым залиты склоны -
это я открываю глаза.
Где и с кем, и когда это было,
только это не я сочинил:
ты меня никогда не любила,
это я тебя очень любил.
Парк осенний стоит одиноко,
и к разлуке, и к смерти готов.
Это что-то задолго до Блока,
это мог сочинить Огарёв.
Это в той допотопной манере,
когда люди сгорали дотла.
Что написано, по крайней мере
в первых строчках, припомни без зла.
Не гляди на меня виновато,
я сейчас докурю и усну -
полусгнившую изгородь ада
по-мальчишески перемахну.
* * *
В номере гостиничном, скрипучем,
грешный лоб ладонью подперев,
прочитай стихи о самом лучшем,
всех на свете бардов перепев.
Чтобы молодящиеся Гали,
позабыв ежеминутный хлам,
горнишные за стеной рыдали,
растирали краску по щекам.
О России, о любви, о чести,
и долой - в чужие города.
Если жизнь всего лишь форма лести,
больше хамства: водки, господа!
Чтоб она трещала и ломалась,
и прощалась с ней душа жива.
В небесах музыка сочинялась
вечная - на смертные слова.
* * *
Приобретут всеевропейский лоск
слова трансазиатского поэта,
я позабуду сказочный Свердловск
и школьный двор в районе Вторчермета.
Но где бы мне ни выпало остыть,
в Париже знойном, Лондоне промозглом,
мой жалкий прах советую зарыть
на безымянном кладбище свердловском.
Не в плане не лишенной красоты,
но вычурной и артистичной позы,
а потому что там мои кенты,
их профили на мраморе и розы.
На купоросных голубых снегах,
закончившие ШРМ на тройки,
они запнулись с медью в черепах
как первые солдаты перестройки.
Пусть Вторчермет гудит своей трубой,
Пластполимер пускай свистит протяжно.
А женщина, что не была со мной,
альбом откроет и закурит важно.
Она откроет голубой альбом,
где лица наши будущим согреты,
где живы мы, в альбоме голубом,
земная шваль: бандиты и поэты.
* * *
Рубашка в клеточку, в полоску брючки -
со смертью-одноклассницей под ручку
по улице иду,
целуясь на ходу.
Гремят КамАЗы, и дымят заводы.
Локальный Стикс колышет нечистоты.
Акации цветут.
Кораблики плывут.
Я раздаю прохожим сигареты
и улыбаюсь, и даю советы,
и прикурить даю.
У бездны на краю
твой белый бант плывет на синем фоне.
И сушатся на каждом на балконе
то майка, то пальто,
то неизвестно что.
Папаша твой зовет тебя, подруга,
грозит тебе и матерится, сука,
е...ый пидарас,
в окно увидев нас.
Прости-прощай. Когда ударят трубы,
и старый боров выдохнет сквозь зубы
за именем моим
зеленоватый дым.
Подкравшись со спины, двумя руками
закрыв глаза мои под облаками,
дыханье затая,
спроси меня: кто я?
И будет музыка, и грянут трубы,
и первый снег мои засыплет губы
и мертвые цветы.
- Мой ангел, это ты.
* * *
Маленький, сонный, по чёрному льду
в школу - вот-вот упаду - но иду.
Мрачно идёт вдоль квартала народ.
Мрачно гудит за кварталом завод.
"...Личико, личико, личико, ли...
будет, мой ангел, чернее земли.
Рученьки, рученьки, рученьки, ру...
будут дрожать на холодном ветру.
Маленький, маленький, маленький, ма... -
в ватный рукав выдыхает зима:
- Аленький галстук на тоненькой ше...
греет ли, мальчик, тепло ли душе?"...
...Всё, что я понял, я понял тогда:
нет никого, ничего, никогда.
Где бы я ни был - на чёрном ветру
в чёрном снегу упаду и умру.
Будет завод надо мною гудеть.
Будет звезда надо мною гореть.
Ржавая, в странных прожилках, звезда,
и - никого, ничего, никогда.
* * *
Включили новое кино,
и началась иная пьянка.
Но всё равно, но всё равно
то там, то здесь звучит "Таганка".
Что Ариосто или Дант!
Я человек того покроя,
я твой навеки арестант,
и всё такое, всё такое.
* * *
Л. Тиновской
Мальчик-еврей принимает из книжек на веру
гостеприимство и русской души широту,
видит берёзы с осинами, ходит по скверу
и христианства на сердце лелеет мечту,
следуя заданной логике, к буйству и пьянству
твёрдой рукою себя приучает, и тут -
видит березу с осиной в осеннем убранстве,
делает песню, и русские люди поют.
Что же касается мальчика, он исчезает.
А относительно пения, песня легко
то форму города некоего принимает,
то повисает над городом, как облако.
* * *
Помнишь дождь на улице Титова,
что прошел немного погодя
после слёз и сказанного слова?
Ты не помнишь этого дождя!
Помнишь, под озябшими кустами
мы с тобою простояли час,
и трамваи сонными глазами
нехотя оглядывали нас?
Озирались сонные трамваи,
и вода по мордам их текла.
Что ещё, Иринушка, не знаю,
но, наверно, музыка была.
Скрипки ли невидимые пели,
или что иное, если взять
двух влюблённых на пустой аллее,
музыка не может не играть.
Постою немного на пороге,
а потом отчалю навсегда
без музыки, но по той дороге,
по которой мы пришли сюда.
И поскольку сердце не забыло
взор твой, надо тоже не забыть
поблагодарить за всё, что было,
потому что не за что простить.
* * *
Не вставай, я сам его укрою,
спи, пока осенняя звезда
светит над твоею головою
и гудят сырые провода.
Звоном тишину сопровождают,
но стоит такая тишина,
словно где-то чётко понимают,
будто чья-то участь решена.
Этот звон растягивая, снова
стягивая, можно разглядеть
музыку, забыться, вставить слово,
про себя печальное напеть.
Про звезду осеннюю, дорогу,
синие пустые небеса,
про цыганку на пути к острогу,
про чужие чёрные глаза.
И глаза закрытые Артёма
видят сон о том, что навсегда
я пришёл и не уйду из дома...
И горит осенняя звезда.
* * *
Так кончается день на краю окна.
Так приходит сон, и рифмуешь наспех
"ночь" и "прочь". Так стоит на столе бокал.
Так смеётся небо однозубой пастью.
Так лежат на столе два пустых листа,
будто ангел-хранитель в связи с сезоном
сбросил крылья (листы), что твой лось - рога,
и ушёл в ночи, потоптав газоны.
Так пускают корни в тебя дожди,
и толчёшь "судьба", как капусту в ступе,
кулаком в груди. Так кончают жить.
Так пылится тень, словно абрис трупа.
Так глядишь на мир через жабры век:
как сложна хиромантия троп, дорог.
Бог жизнь тебе подарил затем,
чтобы ты умереть не колеблясь мог.
* * *
Над домами, домами, домами
голубые висят облака -
вот они и останутся с нами
на века, на века, на века.
Только пар, только белое в синем
над громадами каменных плит...
никогда никуда мы не сгинем,
мы прочней и нежней, чем гранит.
Пусть разрушатся наши скорлупы,
геометрия жизни земной -
оглянись, поцелуй меня в губы,
дай мне руку, останься со мной.
А когда мы друг друга покинем,
ты на крыльях своих унеси
только пар, только белое в синем,
голубое и белое в си......
7 ноября
До боли снежное и хрупкое
сегодня утро, сердце чуткое
насторожилось, ловит звуки.
Бело пространство заоконное -
мальчишкой я врывался в оное
в надетом наспех полушубке.
В побитом молью синем шарфике
я надувал цветные шарики.
......Звучали лозунги и речи......
Где песни ваши, флаги красные,
вы сами, пьяные, прекрасные,
меня берущие на плечи?
* * *
Я помню всё, хоть многое забыл,-
разболтанную школьную ватагу.
Мы к Первомаю замутили брагу,
я из канистры первым пригубил.
Я помню час, когда ногами нас
за буйство избивали демонстранты.
Ах, музыка, ах, розовые банты.
О, раньше было лучше, чем сейчас,-
по-доброму, с улыбкой, как во сне.
И чудом не потухла папироска.
Мы все лежим на площади Свердловска,
где памятник поставят только мне.
* * *
О. Дозморову
Не жалей о прошлом, будь что было,
даже если дело было дрянь.
Штора с чем-то вроде носорога.
На окне какая-то герань.
Вспоминаю, с вечера поддали,
вынули гвоздики из петлиц,
в городе Перми заночевали
у филологических девиц.
На комоде плюшевый мишутка.
Стонет холодильник "Бирюса".
Потому так скверно и так жутко,
что банальней выдумать нельзя.
Я хочу сказать тебе заранее,
милый друг, однажды я умру
на чужом продавленном диване,
головой болея поутру.
Если правда так оно и выйдет,
кто-то тихо вскрикнет за стеной -
это Аня Кузина увидит
светлое сиянье надо мной.
* * *
Пока я спал, повсюду выпал снег -
он падал с неба, белый, синеватый,
и даже вышел грозный человек
с огромной самодельною лопатой
и разбудил меня. А снег меня
не разбудил, он очень тихо падал.
Проснулся я посередине дня,
и за стеной ребёнок тихо плакал.
Давным-давно я вышел в снегопад
без шапки и пальто, до остановки
бежал бегом и был до смерти рад
подруге милой в заячьей обновке -
мы шли ко мне, повсюду снег лежал,
и двор был пуст, вдвоём на целом свете
мы были с ней, и я поцеловал
её тогда, взволнованные дети,
мы озирались, я тайком, она
открыто. Где теперь мои печали,
мои тревоги? Стоя у окна,
я слышу плач и вижу снег. Едва ли
теперь бы побежал, не столь горяч.
(Снег синеват, что простыни от прачек.)
Скреби лопатой, человече, плачь,
мой мальчик или девочка, мой мальчик.
1997
Вот чёрное
Мне город этот до безумья мил -
я в нём себя простил и полюбил
тебя. Всю ночь гуляли, а под утро
настал туман. Я так хотел обнять
тебя, но словно рук не мог поднять.
И право же, их не было как будто.
Как будто эти улицы, мосты
вдруг растворились. Город, я и ты
перемешались, стали паром, паром.
Вот вместо слов взлетают облака
из уст моих. И речь моя легка,
наполнена то счастьем, то кошмаром.
...Вот розовое - я тебя хочу,
вот голубое - видишь, я лечу.
Вот синее - летим со мною вместе
скорей, туда, где нету никого.
Ну, разве кроме счастья самого,
рассчитанного, скажем, лет на двести.
...Вот розовое - я тебя люблю,
вот голубое - я тебя молю,
люби меня, пусть это мука, мука...
Вот чёрное и чёрное опять -
нет, я не знаю, что хотел сказать.
Но всё ж не оставляй меня, подруга.
1996, май
* * *
Ты скажешь, что это поднялся туман.
Отвечу: не верю в обман.
То город - унылый и каменный - сам
Поднялся к чужим небесам.
Мы в небе с тобою. Мы в небе, дружок.
На вдох говорю тебе: Бог.
Ты смотришь куда-то, ты ищешь черты.
Но мы перед Богом чисты.
Ты смотришь, ты ангелов ищешь крыла.
Но, друг мой, округа бела.
Ресницами чувствуй - белее белил -
Касание трепетных крыл.
Мы жили с тобою на страшной земле -
Стояли на чёрной золе.
Мы плакали, и пробивался цветок.
Но мы умирали, дружок.
За то, что я руки твои удержал,
За то, что любил и страдал.
Здесь небо и небо - ни страхов, ни ран.
А ты прерываешь: туман.
Но, друг мой, я чувствую боль на щеке.
И кровь остаётся в руке.
То ангел печали, как острым стеклом,
Ко мне прикоснулся крылом.
1994, ноябрь
Новогодняя ночь
Новый год. На небе звёзды,
как хрусталь. Чисты, морозны.
Снег душист, как мандарин
золотой. А тот - с луною
схож. Пойдёшь гулять со мною?
Если нет, то я один.
Разве могут нас морозы
напугать? Глотают слёзы
вдоль дороги фонари,
словно дети, с жизнью в ссоре.
Ах, не видишь? Что за горе -
ты прищурившись смотри.
Только ночью Новогодней,
друг мой, дышится свободней,
ты согласна? Просто так
мы пойдём вдоль улиц снежных,
бесконечно длинных, нежных.
И придём в старинный парк.
Там как в сказке: водят звери
хоровод - по крайней мере
мне так кажется - вокруг
ёлки. Белочки-игрушки
на ветвях. Пойдём, подружка.
Улыбнись, мой милый друг.
1994, январь
* * *
Ну вот, я засыпаю наконец,
уткнувшись в бок отцу, ещё отец
читает: "выхожу я на дорогу".
Совсем один? Мне пять неполных лет.
Я просыпаюсь, папы рядом нет,
и тихо так, и тлеет понемногу
в окне звезда, деревья за окном,
как стражники, мой охраняют дом.
И некого бояться мне, но всё же
совсем один. Как бедный тот поэт.
Как мой отец. Мне пять неполных лет.
И все мы друг на друга так похожи.
1997
Кальян
Так и курят кальян -
дым проходит сквозь чистую воду.
Я, сквозь слёзы вдохнув свои годы,
вижу каждый изъян.
Сколько было всего.
Как легко забывается детство
и друзья. Я могу оглядеться,
а вокруг - никого.
Остаётся любовь;
что останется той же любовью,
только станет немного бессловней,
только высохнет кровь.
А стихи, наконец,
это слабость, а не озаренье,
чем печальнее, тем откровенней.
Ты прости мне, отец,
но, когда я умру,
расскажи мне последнюю сказку
и закрой мне глаза - эту ласку
я не морщась приму.
Отнеси меня в лес
и скажи, в оправдание, птицам:
"Он хотел, но не мог научиться
ни работать, ни есть".
1993, ноябрь
Соцреализм
1
Важно украшен мой школьный альбом -
молотом тяжким и острым серпом.
Спрячь его, друг, не показывай мне,
снова я вижу как будто во сне:
восьмидесятый, весь в лозунгах, год
с грозным лицом олимпийца встаёт.
Маленький, сонный, по чёрному льду
в школу вот-вот упаду, но иду.
1995, ноябрь
2
Мрачно идет вдоль квартала народ.
Мрачно гудит за кварталом завод.
Песня лихая звучит надо мной.
Начался, граждане, день трудовой.
Всё, что я знаю, я понял тогда -
нет никого, ничего, никогда.
Где бы я ни был - на чёрном ветру
в чёрном снегу упаду и умру.
1995, декабрь
3
"…личико, личико, личико, ли...
будет, мой ангел, чернее земли.
Рученьки, рученьки, рученьки, ру...
будут дрожать на холодном ветру.
Маленький, маленький, маленький, ма... -
в ватный рукав выдыхает зима:
Аленький галстук на тоненькой ше...
греет ли, мальчик, тепло ли душе?"
1995, декабрь
4
Всё, что я понял, я понял тогда -
нет никого, ничего, никогда.
Где бы я ни был - на чёрном ветру
в чёрном снегу - упаду и умру.
Будет завод надо мною гудеть.
Будет звезда надо мною гореть.
Ржавая, в чёрных прожилках, звезда.
И - никого. Ничего. Никогда.
1995, декабрь
* * *
Старенький двор в нехорошем районе -
Те же старухи и те же качели.
Те же цветы и цветы на балконе,
Будто не годы прошли, а неделя,
Как я отсюда до капельки вышел.
До испарившейся с века слезинки,
После упавшей на серые крыши
Капелькой. Радиоактивной дождинкой.
Здравствуй и ты, покосившийся столик,
Ты и роднее, чем школьная парта…
Здесь собирались, мне помнится, трое -
Время и деньги проигрывать в карты.
Их-то и нету. Куда подевались?
В память мою удалились, быть может,
Так что теней и теней не осталось.
Благо, коль я в чьей-то памяти тоже.
…нет, не присяду, не буду ответа
ждать, вопрошая плохую погоду:
"О, помогите мне, милые ветры -
сдайте листвы пожелтевшей колоду.
Дайте, родные, на этом же месте,
Где проиграл драгоценное сдуру,
Всё отыграю. На кон свои песни
Кинув и полуистлевший окурок".
Нет, потому что не падок на чудо.
Благо и то - постоять, оглядеться
И навсегда удалиться отсюда.
Ты отпусти меня, глупое сердце!
1994, май
* * *
Я и мрак в пустом вагоне,
Я и мрак.
Выпил водки, залил горе
Натощак.
Вышел в тамбур, поднял ворот
У пальто.
Видел лица, видел город.
Город тот:
Умереть пытался
Или просто так,
Расползался и сжимался,
Как слизняк.
Вскоре люди. Были песни
И вино.
Были девушки. Чудесно
И смешно.
Мимолётно бросил взглядом
За окно:
Ничего там нет, лишь грязно
И темно.
1992
Фонари
Фонари, фонари над моей головой,
будьте вы хоть подобьем зари.
Жизнь так скоро проходит - сказав "боже мой",
не успеешь сказать "помоги".
Как уносит река отраженье лица,
век уносит меня, а душа
остаётся. И что? - я не вижу конца.
Я предвижу конец. И, дыша
этой ночью, замешанной на крови,
говорю: "Фонари, фонари,
не могу я промолвить, что болен и слаб.
Что могу я поделать с собой? -
разве что умереть, как последний солдат,
испугавшийся крови чужой".
1993, декабрь
Бледный всадник
Над Невою огонь горит -
бьёт копытами и храпит.
О, прощай, сероглазый рай.
Каменный град, прощай!
Мил ты мне, до безумья мил -
вряд ли ты бы мне жизнь скостил,
но на фоне камней она
так не слишком длинна.
Да и статуи - страшный грех -
мне милее людей - от тех,
с головой окунувшись в ложь,
уж ничего не ждёшь.
И, чего там греха таить,
мне милей по камням ходить -
а земля мне внушает страх,
ибо земля есть прах.
Так прощай навсегда, прощай!
Ждать и помнить не обещай.
Да чего я твержу - дурак -
кто я тебе? Я так.
Пусть деревья страшит огонь.
Для камней он - что рыжий конь.
Вскакивает на коня и мчит
бледный всадник. В ночи.
1994, октябрь
* * *
Урал - мне страшно, жутко на Урале.
На проводах - унылые вороны,
как ноты, не по ним ли там играли
марш - во дворе напротив - похоронный?
Так тихо шли, и маялись, и жили.
О, горе - и помочь не можешь горю.
Февраль, на небе звёзды, как чужие,
придёт весна - и я уеду к морю.
Пусть волосы мои растреплет ветер
той верною - единственной - рукою.
Пивные волны, кареглазый вечер.
Не уходи - родной - побудь со мною,
не отпускай - дружок - держи за плечи -
в глухой Урал к безумству и злословью.
О, боже, ты не дал мне жизни вечной,
дай сердце - описать её с любовью.
1995, февраль
Ночной прохожий
"...Пройди по улице пустой -
морозной, ветреной, ночной.
Закрыты бары, магазины.
Прекрасны дамы, господа
в витринах. Дивные витрины
горят. О, загляни туда.
Не ад ли это? Высший свет
чудовищ? Да. А впрочем, нет.
Она как ангел человечна -
ладони повернула так,
как будто плачет, плачет вечно.
И смотрит милая во мрак.
О, этот тёмно-синий взор -
какая боль, какой укор.
И гордость, друг мой, и смиренье.
Поджаты тонкие уста.
Она - сплошное сожаленье.
Она - сплошная доброта.
...Прижмись небритою щекой
к стеклу холодному. Какой
морозный ветер. Переливы
созвездий чудных на снегу.
И повторяй неторопливо:
"Я тоже больше не могу..."
1996, январь
Осень в парке
Я не понимаю, что это такое...
Я.С.
Ангелы шмонались по пустым аллеям
парка. Мы топтались тупо у пруда.
Молоды мы были. А теперь стареем.
И подумать только, это навсегда.
Был бы я умнее, что ли, выше ростом,
умудренней горьким опытом мудак,
я сказал бы что-то вроде: "Постум, Постум...",
как сказал однажды Квинт Гораций Флакк.
Но совсем не страшно. Только очень грустно.
Друг мой, дай мне руку. Загляни в глаза,
ты увидишь, в мире холодно и пусто.
Мы умрём с тобою через три часа.
В парке, где мы бродим. Умирают розы.
Жалко, что бессмертья не раскрыт секрет.
И дождинки капают, как чужие слёзы.
Я из роз увядших соберу букет...
1996
Нежная сказка для Ирины
1
...мы с тобою пойдём туда,
где над лесом горит звезда.
...мы построим уютный дом,
будет сказочно в доме том.
Да оставим открытой дверь,
чтоб заглядывал всякий зверь
есть наш хлеб. И, лакая квас,
говорил: "Хорошо у вас".
2
...мы с тобою пойдём-пойдём,
только сердце с собой возьмём.
...мы возьмём только нашу речь,
чтобы слово "люблю" беречь.
Что ж ещё нам с собою взять?
Надо валенки поискать -
как бы их не поела моль.
Что оставим? Печаль и боль.
3
Будет крохотным домик, да,
чтоб вместилась любовь туда.
Чтоб смогли мы его вдвоём
человечьим согреть теплом.
А в окошечко сотню лет
будет литься небесный свет -
освещать мои книги и
голубые глаза твои.
4
Всякий день, ровно в три часа,
молока принесёт коза.
Да, в невинной крови промок,
волк ягнёночка на порог
принесёт - одинок я, стар -
и оставит его нам в дар,
в знак того, что он любит нас -
ровно в два или, скажем, в час.
5
...а когда мы с тобой умрём,
старый волк забредёт в наш дом -
хлынут слёзы из синих глаз,
снимет шкуру, укроет нас.
Будет нас на руках носить
да по-волчьему петь-бубнить:
"Бу-бу-бу. Бу-бу-бу. Бу-бу...",
в кровь клыком раскусив губу.
1996, январь
* * *
"От меня вечор Леила..."
А.П.
1
"...друг мой, друг мой, перед Богом
я ни в чём не виноват -
в смысле, право, самом строгом.
Почему же прячу взгляд,
словно гость незваный, скучный
перед милыми людьми?
Одинокий, злополучный,
нелюбимый, чёрт возьми,
в чём виновен перед ними -
или что-нибудь украл,
или милыми моими
я их всех не называл?.."
2
"...пред людьми на свете этом
ты виновен в том, что жил -
любовался их рассветом,
их звездбми дорожил.
Ты виновен в том, что сладкий,
чистый воздух их вдыхал.
И украдкой, и украдкой
их манеры перенял -
научился расставаться,
улыбаться с теплотой,
водку пить и целоваться
и шептаться за спиной..."
3
"...друг мой, друг мой, как мне плохо -
словно камень лёг на грудь.
Тихо-тихо без подвоха
расскажи мне что-нибудь.
Расскажи мне сказку, что ли,
о Иване-Дураке -
он не корчился от боли,
с чудом был накоротке..."
Тихо льётся голос милый,
нежно за душу берёт -
так над чьей-нибудь могилой
дождик ласковый идёт.
1996, январь
Кино
Вдруг вспомнятся восьмидесятые
с толпою у кинотеатра
"Заря", ребята волосатые
и оттепель в начале марта.
В стране чугун изрядно плавится
и проектируются танки.
Житуха-жизнь плывёт и нравится,
приходят девочки на танцы.
Привозят джинсы из америки
и продают за ползарплаты
определившиеся в скверике
интеллигентные ребята.
А на балконе комсомолочка
стоит, немножечко помята,
она летала, как Дюймовочка,
всю ночь в объятьях депутата.
Но всё равно кино кончается,
и всё кончается на свете:
толпа уходит, и валяется
сын человеческий в буфете.
1997
* * *
Красавица в осьмнадцать лет,
смотри, как тихо мы стареем:
всё тише музыка, и свет
давно не тот, и мы робеем,
но всё ж идём в кромешный мрак.
Но, слышишь, музыка, иная
уже звучит, негромко так,
едва-едва, моя родная.
Когда-нибудь, когда-нибудь,
когда не знаю, но наверно
окажется прекрасным путь
казавшийся когда-то скверным.
В окно ворвутся облака,
прольётся ливень синеокий.
И музыка издалека
сольётся с музыкой далёкой.
В сей музыкальный кавардак
войдут две маленькие тени -
от летней музыки на шаг,
на шаг от музыки осенней.
1997
* * *
...Облака над домами,
облака, облака.
Припадаю губами
к вашей ручке: пока.
Тихой логике мира
я ответить хочу
всем безумием Лира,
припадая к плечу.
Пять минут до разлуки
навсегда, навсегда.
Я люблю эти руки,
плечи, волосы, да.
Но прощайте, прощайте,
сколько можно стоять.
Больше не обещайте
помнить, верить, рыдать.
Всё вы знаете сами
на века, на века.
Над домами, домами
облака, облака.
1997
* * *
Не в августе, а в сентябре
деревья сбрасывают листья,
покачиваясь на ветру.
Так безотраден и так пре-
красен парк, что, оглянись я,
расплачусь сразу и умру.
Летит листва, я не забыл
любовный шёпот, шелест платья
и падающий сапожок.
Угаснул юношеский пыл,
и неизвестно, в чьи объятья
теперь ты падаешь, дружок.
Одно известно, не в мои -
и я от мысли этой слёзы
со щёк стираю или нет.
Зажглись небесные огни -
так избегает жалкой прозы
в стихах посредственный поэт.
Не в сентябре, а в октябре
стоят одни под небесами
деревья в белом серебре,
покачиваясь на ветру.
Ужель тебя отдали сами
мои хладеющие ру?
1997
* * *
Отправлю сына в детский сад,
а после - сам себе не рад -
я вспоминаю детство,
тебя о жалости моля
- о жизнь моя, о смерть моя -
моё больное сердце.
Как смог я детство пережить,
чтоб иногда счастливым быть?
но, отражаясь в сыне,
всё время чувствовать - что, сплин? -
какой там сплин, когда один,
стоишь один в пустыне.
1997
* * *
Н.Ч.
"...Ты выше, ты моложе, ты стройней..." -
я бормочу, когда, простившись с ней,
иду домой. Закат стекает с кровель
чужих домов и льётся по лицу.
Но, как Петрарка, я свой римский профиль
с любовью и достоинством несу.
1997
* * *
Столичный бард мне сухо говорил,
Что я стихи дурные сочинил,
А я ему почти не возражал,
И как я возразить мог в самом деле,
Учитывая то, что Слуцкий жал
Ему однажды руку в ЦДЛе.
Я пожимал плечами: нет так нет,
Он был, конечно, неплохой поэт,
Но я его ни разу не читал,
А Слуцкий на меня наводит скуку.
Но года не прошло с тех пор, и руку
Мне Александр Семёныч Кушнер жал.
1997
Элегия
…И вечно неуместный, как ребёнок,
самой природы вечный меньшевик,
я руку жал писателям, поэтам,
пил суррогат в посёлке приисковом,
кутил, учился в горном институте,
печатал вирши в периодике.
Четыре года занимался боксом,
а до того ещё четыре года -
авиа-моделированием.
Лечился. Пил. И заново лечился.
- Ты должен быть авиамоделистом, -
мне говорил Сергей Петрович Комов.
- Ты должен стать боксером, - говорил
мне чемпион Европы А. Засухин.
И приглашал меня в аспирантуру
Иосиф Абрамович Шапиро.
А некто Алексей Арнольдыч Пурин
сказал: вы замечательный поэт.
Я жить хочу. Прощайте, самолёты.
Висите на гвозде, восьмиунцовки.
И крепко-крепко спите под землёй,
мои месторождения урана.
Стихи, прощайте. Ждёт меня тайга.
Два трогательных ангела над драгой.
1998
* * *
В длинном пальто итальянском.
В чёрной английской кепке.
В пиджаке марки "Herman".
В брюках модели "Dublin".
Стою над твоей могилой,
Депутат сталинского блока
Партийных и беспартийных
Пётр Афанасьевич Рыжий -
Борис Борисович Рыжий,
Не пьяный, но и не трезвый,
Ни в кого не влюблённый,
Но и никем не любимый.
Да здравствуют жизнь и скука.
Будь проклято счастье это.
Да будет походка внука
Легче поступи деда.
1998
* * *
Россия. Глухомань. Зима.
Но если не сходить с ума,
на кончике карандаша
уместится душа.
Я лягу спать. А ты пари
над бездною, как на пари,
пари, мой карандаш, уважь
меня, мой карандаш.
Шальную мысль мою лови.
Рисуй объект моей любви
в прозрачном платье, босиком,
на берегу морском.
У моря, на границе сна
она стоит всегда одна.
И море синее шумит,
в башке моей шумит.
И рифмы сладкие живут,
и строчки синие бегут,
морским подобные волнам,
бегут к её ногам.
1998
* * *
Лейся, песня, - теперь всё равно -
сразу же после таянья снега
мы семь раз наблюдали кино
про пиратов двадцатого века.
Единение с веком, с людьми,
миром, городом, с местной шпаною -
уходи, но не хлопай дверьми,
или сядь и останься со мною.
После вспомнишь: невзрачный пейзаж,
здоровенный призрбк экскаватора.
Фильм закончен. Без малого час
мы толпимся у кинотеатра.
Мы все вместе, поскольку гроза.
Только вспомню - сирень расцветает -
проступает такая слеза,
и душа - закипает.
Жили-были, ходили в кино,
наконец пионерами были.
Зазевались, да - эх на говно
белоснежной туфлёй наступили.
1998
* * *
Весенней заоконной речи
последний звук унёсся прочь -
проснусь, когда наступит вечер
и канет в голубую ночь.
И голубым табачным дымом
сдувая пепел со стола,
сижу себе, кретин кретином,
а жизнь была и не была.
Была, смеялась надо мною,
рыдала надо мною, но
лицо родное тишиною
из памяти удалено.
Но тихий треск, но тихий шорох,
крыла какого-нибудь взмах,
убьёт чудовищ, о которых
скажу однажды в двух словах.
И на рассвете, на рассвете
уснув, сквозь сон услышу, как
за окнами смеются дети,
стучит за стенкою дурак.
Но, к тишине склоняясь ликом,
я заработал честный сон -
когда вращаются со скрипом
косые шестерни времён.
А вместо этого я вижу,
душою ощущаю тех,
кого смертельно ненавижу,
кого коснуться смертный грех.
1998
* * *
А что такое старость? Это
парк в середине сентября,
позавчерашняя газета
под тусклым светом фонаря.
Влюблённых слипшиеся пары,
огни под кронами дерев.
И тары-бары-растабары
шурует дождик нараспев.
Расправив зонтик кривобокий,
прохожий шлёпает во тьму
и сочиняет эти строки,
не улыбаясь ничему.
1999
* * *
Досадно, но сколько ни лгу,
пространство, где мы с тобой жили,
учились любить и любили,
никак сочинить не могу:
детали, фрагменты, куски,
сирень у чужого подъезда,
ржавеющее неуместно
железо у синей реки.
Вдали похоронный оркестр
(теперь почему-то их нету).
А может быть, главное - это
не время, не место, а жест,
когда я к тебе наклонюсь,
небольно сжимая ладони,
на плохо прописанном фоне,
моя неумелая грусть…
1998, 1999
* * *
Тонкой дымя папироской,
где-то без малого час
Яков Петрович Полонский
пишет стихи про Кавказ.
Господи, только не сразу
финку мне всаживай в грудь.
Дай дотянуть до "Кавказу".
Дай сочинить что-нибудь.
Раз, и дурное забыто.
Два, и уже стучат
в гулком ущелье копыта,
кони по небу летят.
Доброе - как на ладони.
Свет на висках седока.
Тонкие чёрные кони
в синие прут облака.
1999
* * *
Померкли очи голубые,
Погасли чёрные глаза -
Стареют школьницы былые,
Беседки, парки, небеса.
Исчезли фартучки, манжеты,
А с ними весь ажурный мир.
И той скамейки в парке нету,
Где было вырезано "Б. Р.".
Я сиживал на той скамейке,
Когда уроки пропускал.
Я для одной за три копейки
Любовь и солнце покупал.
Я говорил ей небылицы:
Умрём, и всё начнется вновь.
И вновь на свете повторится
Скамейка, счастье и любовь.
Исчезло всё, что было мило,
Что только-только началось -
Любовь и солнце - мимо, мимо
Скамейки в парке пронеслось.
Осталась глупая досада -
И тихо злит меня опять
Не то, что говорить не надо,
А то, что нечего сказать.
Былая школьница, по плану
У нас развод, да будет так.
Прости былому хулигану
- что там? - поэзию и мрак.
Я не настолько верю в слово,
Чтобы как в юности, тогда,
Сказать, что всё начнется снова.
Ведь не начнётся никогда.
1999
* * *
...Три дня я ладошки твои целовал
и плакал от счастья и горя.
Три дня я "Столичной" хрусталь обливал
и клялся поехать на море.
И парила три дня за окошком сирень,
и гром грохотал за окошком.
Рассказами тень наводя на плетень,
я вновь возвращался к ладошкам.
Три дня пронеслись, ты расплакалась вдруг,
я выпил и опохмелился.
...И томик Григорьева выпал из рук,
с подушки Полонский свалился.
И не получилось у нас ничего,
как ты иногда предрекала.
И чёрное море три дня без меня,
как я, тяжело тосковало.
По чёрному морю носились суда,
и чайки над морем кричали:
"Сначала его разлюбила она,
он умер потом от печали..."
1997
* * *
Давай по городу пройдём
ночному, пьяные немножко.
Как хорошо гулять вдвоём.
Проспект засыпан белой крошкой.
…Чтоб не замёрзнуть до зари,
ты ручкой носик разотри.
Стой, ничего не говори.
Я пессимист в седьмом колене:
сейчас погасят фонари -
и врассыпную наши тени,
как чертенята, стук-постук,
нет-нет, как маленькие дети.
Смотри, как много их вокруг,
да мы с тобой одни на свете.
1997
* * *
Как часто, думая о жизни,
хватает силы лишь на треть:
вопрос задать, и сон увидеть
вперёд, чем истину узреть.
Забудешься: приснится воздух -
последний выдох или вдох
вне лишних тел, вне прежних слёз и
вне самого и городов.
Сплошные звуки: чьё-то пенье,
ленивый смех, больничный бред.
И, кажется, усилив зренье,
вдруг каждый звук увидишь в цвет.
Очнёшься: кофта наизнанку,
чужая тень, чужая твердь.
В окно заглянешь - день насмарку.
...Не все ль мы жизнью дразним смерть.
1997
* * *
Я забываю сам себя,
когда ночами просыпаюсь,
и, вспоминая, вспоминаюсь,
полулежа, полусидя.
Когда же вновь определю,
что это я, а не иначе,
я горько жалуюсь, и плачу,
и слёзы лью, и слёзы лью.
Ты тихо спишь, ты тихо спишь.
И тихо дождь стучит по крыше.
И я шепчу как можно тише:
о, успокой меня, услышь!
не датировано
* * *
Мастерство приходит прежде славы -
слава будет после,
а пока мы с тобою мстительны и правы,
два хороших друга, два врага.
Можно сделать так, а можно эдак,
можно всё совсем перевернуть,
только дайте крикнуть напоследок:
я любил тебя, мой милый друг.
не датировано
* * *
Одни меня любили потому-то,
другие не любили отчего-то,
а ты меня любила просто так:
из Лондона приедешь, на минуту
зайдёшь, я рот открою как дурак
и говорю, что ты похорошела,
объятья, поцелуи, суть да дело,
а между тем неделя пролетела.
Когда мы познакомились случайно,
я сразу понял, что не дура ты,
что есть в тебе какая-нибудь тайна,
и подарил цветы, цветы, цветы.
Не спрашивала, кто я и зачем
я, собственно, живу на белом свете,
убийца или честный христианин,
и даже - русский я или еврей?
Ничем не удивлялась ни на миг,
и если, скажем, среди стопок книг,
среди томов Вергилия и Канта
я б предложил тебе два варианта:
спортсмен-бегун и гений и поэт,
ты долго колебалась бы, мой свет,
выпрашивая правильный ответ.
А может быть, настолько ты любила,
что я был всем для сердца твоего,
единственным не в смысле переносном,
но в том прямом и бесконечном смысле,
которого, увы, мне не постичь -
я миром был, я небом был и морем,
я облаком над городом Свердловском,
я той страной, откуда ты свалила,
но всё же приезжала иногда,
и снова: водку пьёт и курит "Приму"
твоя страна, в трусах гостей встречает,
читает книжки, музыку включает,
в объятия тревожно заключает
и умилённо смотрит на тебя.
не датировано
* * *
Я так хочу прекрасное создать,
печальное, за это жизнь свою
готов потом хоть дьяволу отдать.
Хоть дьявола я вовсе не люблю.
Поверь, читатель, не сочти за ложь -
что проку мне потом в моей душе?
Что жизнь моя, дружок? - цена ей грош,
а я хочу остаться в барыше.
1995
From Sverdlovsk with love
Приобретут всеевропейский лоск
слова трансазиатского поэта,
я позабуду сказочный Свердловск
и школьный двор
в районе Вторчермета.
Но где бы мне ни выпало остыть,
в Париже знойном,
в Лондоне промозглом,
мой жалкий прах советую зарыть
на безымянном кладбище
свердловском.
Не в плане не лишённой красоты,
но вычурной и артистичной позы,
а потому что там мои кенты,
их профили из мрамора и розы.
На купоросных голубых снегах,
закончившие ШРМ на тройки,
они споткнулись с медью в черепах
как первые солдаты перестройки.
Пусть Вторчермет гудит своей трубой.
Пластполимер пускай свистит
протяжно.
А женщина, что не была со мной,
альбом откроет и закурит важно.
Она откроет голубой альбом,
где лица наши будущим согреты,
где живы мы, в альбоме голубом,
земная шваль: бандиты и поэты.
Из фотоальбома
Тайга - по центру, Кама - с краю,
с другого края, пьяный в дым,
с разбитой харей, у сарая
стою с Григорием Данским.*
Под цифрой 98
слова: деревня Сартасы.
Мы много пили в эту осень
агдама, света и росы.
Убита пятая бутылка.
Роится над башками гнусь.
Заброшенная лесопилка.
Почти что новый "Беларусь".
А-ну, давай-ка, ай-люли,
в кабину лезь и не юли,
рули вдоль склона неуклонно,
до неба синего рули.
Затарахтел. Зафыркал смрадно.
Фонтаном грязь из-под колёс.
И так вольготно и отрадно,
что деться некуда от слёз.
Как будто кончено сраженье,
и мы, прожжённые, летим,
прорвавшись через окруженье,
к своим.
Авария. Лицо разбито.
Но фотографию найду,
и повторяю как молитву
такую вот белиберду:
душа моя, огнём и дымом,
путём небесно-голубым,
любимая, лети к любимым
своим.
* * *
Во-первых, -вторых, -четвёртых,
даже живых-то, чёрт их
знает, что с ними, где они.
А что касается мёртвых,
вовсе сведений мало.
Только спрошу устало:
Эля, ты стала облаком
или ты им не стала?
Вспомню о средней школе -
съездить туда, что ли?
Меня оттуда выгнали.
Ты тоже ушла поневоле.
Прямо с белых ступеней
ушла в царство теней.
Я распустил нюни
как мудозвон-Евгений.
Опубликовал в "Урале"
рифмованные печали.
Так, чтобы люди разные
плакали и читали.
Объявил, пустомеля:
вот, умерла Эля
в середине апреля.
В середине апреля,
горе мое, прости же
за юношеские вирши,
прими благосклонно взрослые
с меньшей долею фальши.
С большею долей смеха
и культурного эха.
Деревья стоят чёрные
на фоне белого снега.
* * *
Восьмидесятые, усатые,
хвостатые и полосатые.
Трамваи дребезжат бесплатные.
Летят снежинки аккуратные.
Фигово жили, словно не были.
Пожалуй так оно, однако
гляди сюда, какими лейблами
расписана моя телага.
На спину "Levi's" пришпандорено,
"West Island" на рукав пришпилено.
Пятирублёвка, что надорвана,
изъята у Серёги Жилина.
13 лет. Стою на ринге.
Загар бронёю на узбеке.
Я проиграю в поединке,
но выиграю в дискотеке.
Пойду в общагу ПТУ,
гусар, повеса из повес.
Меня обуют на мосту
три ухаря из ППС.
И я услышу поутру,
очнувшись головой на свае:
трамваи едут по нутру,
под мустом дребезжат трамваи.
Трамваи дребезжат бесплатные.
Летят снежинки аккуратные.
* * *
Оркестр играет на трубе.
И ты идёшь почти вслепую
от пункта А до пункта Б
под мрачную и духовую.
Тюрьма стеной окружена.
И гражданам свободной воли
оттуда музыка слышна.
И ты поморщился от боли.
А ты по холоду идёшь
в пальто осеннем нараспашку.
Ты папиросу достаёшь
и хмуро делаешь затяжку.
Но снова ухает труба.
Всё рассыпается на части
от пункта Б до пункта А.
И ты поморщился от счастья.
Как будто только что убёг,
зарезал суку в коридоре.
Вэвэшник выстрелил в висок,
и ты лежишь на косогоре.
И путь-дорога далека.
И пахнет прелою листвою.
И пролетают облака
над непокрытой головою.
* * *
Лысов Евгений похоронен.
Бюст очень даже натурален.
Гроб, говорят, огнеупорен.
Я думаю, Лысов доволен.
Я знал его от подворотен
до кандидата-депутата.
Он был кому-то неугоден.
А я любил его когда-то.
С районной шушерой небрежен,
неумолим в вопросе денег.
Со мною был учтив и нежен,
отремонтировал мне велик.
Он многих, видимо, обидел,
мне не сказал дурного слова.
Я радовался, если видел
по телевизору Лысова.
Я мало-мало стал поэтом,
конечно, злым, конечно, бедным,
но как подумаю об этом,
о колесе велосипедном -
мне жалко, что его убили.
Что он теперь лежит в могиле.
А впрочем, что же, жили-были...
В затылок Женю застрелили.
Седьмое Ноября
Ничего не будет, только эта
песня на обветренных губах.
Утомлённый мыслями о мета-
физике и метафизиках,
я умру, а после я воскресну.
И назло моим учителям
очень разухабистую песню
сочиню. По скверам и дворам
чтоб она шальная проносилась.
Танцевала, как хмельная блядь.
Чтобы время вспять поворотилось,
и былое началось опять.
Выхожу в телаге, всюду флаги.
Курят пацаны у гаража.
И торчит из свёрнутой бумаги
рукоятка финского ножа.
Как известно, это лучше с песней.
По стране несётся тру-ля-ля.
Эта песня может быть чудесней,
мимоходом замечаю я.
* * *
Что махновцы, вошли красиво
в незатейливый город N.
По трактирам хлебали пиво
да актёрок несли со сцен.
Чем оправдывалось всё это?
Тем оправдывалось, что есть
за душой полтора сонета,
сумасшедшинка, искра, спесь.
Обыватели, эпигоны,
марш в унылые конуры!
Пластилиновые погоны,
револьверы из фанеры.
Вы, любители истуканов,
прячьтесь дома по вечерам.
Мы гуляем, палим с наганов
да по газовым фонарям.
Чем оправдывается это?
Тем, что завтра на смертный бой
выйдем трезвые до рассвета,
не вернётся никто домой.
Други-недруги. Шило-мыло.
Расплескался по ветру флаг.
А всегда только так и было.
И вовеки пребудет так:
Вы - стоящие на балконе
жизни - умники, дураки.
Мы восхода на алом фоне
исчезающие полки.
* * *
Больничная тара, черника
и спирт голубеют в воде.
Старик, что судил Амальрика
в тагильском районном суде,
шарманку беззубую снова
заводит, позорище, блин:
вы знаете, парни, такого?
Не знаем и знать не хотим.
Погиб за границей Амбльрик,
загнулся в неведомых США.
Тут плотник, таксист и пожарник,
и ваша живая душа.
Жизнь, сволочь в лиловом мундире,
гуляет светло и легко,
но есть одиночество в мире
и гибель в дырявом трико.
Проветривается палата,
листва залетает в окно.
С утра до отбоя ребята
играют в лото-домино.
От этих фамилий, поверьте,
ни холодно, ни горячо.
Судья, вы забыли о смерти,
что смотрит вам через плечо.
* * *
Мой герой ускользает во тьму,
вслед за ним устремляются трое.
Я придумал его, потому
что поэту не в кайф без героя.
Я его сочинил от уста-
лости, что ли, ещё от желанья
быть услышанным, что ли, чита-
телю в кайф, грехам в оправданье.
Он бездельничал, "Русскую" пил,
он шмонался по паркам туманным.
Я за чтением зренье садил
да коверкал язык иностранным.
Мне бы как-нибудь дошкандыбать
до посмертной серебряной ренты,
а ему, дармоеду, плевать
на аплодисменты.
Это, бей его, ребя! Душа
без посредников сможет отныне
кое с кем объясниться в пустыне
лишь посредством карандаша.
Воротник поднимаю пальто,
закурив предварительно: время
твоё вышло, мочи его, ребя,
он - никто.
Синий луч с зеленцой по краям
преломляют кирпичные стены.
Слышу рёв милицейской сирены,
нарезая по пустырям.
* * *
Когда менты мне репу расшибут,
лишив меня и разума и чести
за хмель, за матерок, за то, что тут
ЗДЕСЬ САТЬ НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ.
Тогда, наверно, вырвется вовне,
потянется по сумрачным кварталам
былое или снившееся мне -
затейливым и тихим карнавалом.
Наташа. Саша. Лёша. Алексей.
Пьеро, сложивший лодочкой ладони.
Шарманщик в окруженьи голубей.
Русалки. Гномы. Ангелы и кони.
Училки. Подхалимы. Подлецы.
Два прапорщика из военкомата.
Киношные смешные мертвецы,
исчадье пластилинового ада.
Денис Давыдов. Батюшков смешной.
Некрасов желчный.
Вяземский усталый.
Весталка, что склонялась надо мной,
и фея, что мой дом оберегала.
И проч., и проч., и проч., и проч., и проч.
Я сам не знаю то, что знает память.
Идите к чёрту, удаляйтесь в ночь.
От силы две строфы могу добавить.
Три женщины. Три школьницы. Одна
с косичками, другая в платье строгом,
закрашена у третьей седина.
За всех троих отвечу перед Богом.
Мы умерли. Озвучит сей предмет
музыкою, что мной была любима,
за три рубля запроданный кларнет
безвестного Синявина Вадима.
* * *
Я пройду, как по Дублину Джойс,
сквозь косые дожди проливные.
Где когда-то бывать мне пришлось,
попроведаю точки пивные.
Чего было, того уже нет,
и поэтому очень печально -
заявил бы уральский поэт.
У меня получилось случайно.
Подвозили наркотик к пяти,
а потом до утра танцевали,
и кенту с портаком "ЛЕБЕДИ"
неотложку в ночи вызывали.
А теперь кто дантист, кто говно
и владелец нескромного клуба.
Идиоты. А мне всё равно.
Обнимаю, целую вас в губы.
И иду, как по Дублину Джойс,
смрадный ветер вдыхаю до боли.
I am loved. That is why I rejoice.
I remember my childhood only.
* * *
Довольно я поездил в поездах,
не меньше полетал на самолётах.
Соль жизни в постоянных поворотах,
всё остальное тлен, вернее прах.
Купе. Блондинка двадцати двух лет
глядит в окно, изрядно беспокоясь:
когда мы часовой проедем пояс,
то сразу потемнеет или нет?
Который час я на неё смотрю,
хотя упорно не смотреть стараюсь.
А тут обмяк, открыто улыбаюсь:
- А как же, дорогуша! - говорю.
Екатеринбург
* * *
Скажи мне сразу после снегопада
Скажи мне сразу после снегопада -
мы живы или нас похоронили?
Нет, помолчи, мне только слов не надо
ни на земле, ни в небе, ни в могиле.
Мне дал Господь не розовое море,
не силы, чтоб с врагами поквитаться -
возможность плакать от чужого горя,
любя, чужому счастью улыбаться.
...В снежки играют мокрые солдаты -
они одни, одни на целом свете...
Как снег чисты, как ангелы - крылаты,
ни в чём не виноваты, словно дети.
1996
Элегия
Зимой под синими облаками
в санях идиотских дышу в ладони,
бормоча известное: "Эх вы, сани!
А кони, кони!".
Эх, за десять баксов к дому милой -
ну ты и придурок, скажет киса.
Будет ей что вспомнить над могилой
её Бориса.
Слева и справа - грустным планом
шестнадцатиэтажки. "А ну, парень,
погоняй лошадок!" - "А куда нам
спешить, барин?"
1998
* * *
Фотограф старый был носат и прав,
Когда сказал: "К чему цветное?
Во, чёрно дешевле,
А во, - он помолчал, - черно
Вкруг ваших глаз.
Вы бледен, как декабрь...".
1994, декабрь
* * *
Сын, подойди к отцу.
Милый, пока ты зряч.
Ближе склонись к лицу.
Сын, никогда не плачь.
Бойся собственных слёз,
Как боятся собак.
Пьян ты или тверёз,
Свет в окне или мрак.
Старым стал твой отец,
Сядь рядом со мной.
Видишь этот рубец -
Он оставлен слезой.
1994, сентябрь
Музе
Напялим чёрный фрак
и тросточку возьмём -
постукивая так,
по городу пойдём.
Где нищие, жлобьё,
безумцы и рвачи -
сокровище моё,
стучи, стучи, стучи.
Стучи, моя тоска,
стучи, моя печаль,
у сердца, у виска
за всё, чего мне жаль.
За всех, кто умирал
в удушливой глуши,
за всех, кто не отдал
за эту жизнь души.
Среди фуфаек, роб
и всяческих спецух
стучи сильнее, чтоб
окреп великий слух.
...Заглянем на базар
и в ресторан зайдём -
сжирайте свой навар,
мы дар свой не сожрём.
Мы будем битый час
слоняться взад.
...И бабочка у нас
на горле оживёт...
1996, март
Приветствие
Фонарный столб, приветствую тебя.
Для позднего прохожего ты кстати.
Я обопрусь плечом. Скажи, с какой
Поры
Пути нам освещают слёзы?
Мне только девятнадцать, а уже
Я точно знаю, где и как погибну -
Сначала все покинут, а потом
Продам все книги. Дальше будет холод,
Который я не вынесу.
Старик,
В твоих железных веках блещут слёзы
Стеклянные. Так освети мне путь
До дома -
пусть он вовсе не тернистый -
Я пьян сегодня.
1993, октябрь
В пустом трамвае
Ночью поздней, в трамвае пустом -
Новогодний игрушечный сор.
У красавицы с траурным ртом
Как ангельски холоден взор.
Пьяный друг мне шепнёт: "Человек
Её бросил? Ну что ж? Ничего -
Через миг, через час, через век
И она позабудет его".
Я, проснувшись, скажу: "Может быть
Муж на кофточку денег не дал...".
А потом не смогу позабыть,
Вспомнив нежную деву.
Как, под эти морщинки у губ
Подставляя несчастье своё,
Я - наружно и ветрен и груб -
И люблю и жалею её.
1995, январь
* * *
Ни денег, ни вина...
Г. Адамович
- Пойдёмте, друг, вдоль улицы пустой,
где фонари висят, как мандарины,
и снег лежит, январский снег простой,
и навсегда закрыты магазины.
Рекламный блеск, витрины, трубы, рвы.
- Так грустно, друг, так жутко,
так буквально.
А вы? Чего от жизни ждёте вы?
- Печаль, мой друг,
прекрасное - печально.
Всё так, и мы идём вдоль чёрных стен.
- Скажите мне,
что будет завтра с нами?
И безобразный вечный манекен
глядит нам вслед красивыми глазами.
Что знает он? Что этот мир жесток?
Что страшен?
Что мертвы в витринах розы?
- Что счастье есть, но вам его, мой бог,
холодные - увы - затмили слёзы.
1995, январь
* * *
"В белом поле был пепельный бал..." -
вслух читал, у гостей напиваясь,
перед сном как молитву шептал,
а теперь и не вспомнить, признаюсь.
Над великой рекой постою,
где алеет закат, догорая.
Вы вошли слишком просто в мою
жизнь - играючи и умирая.
Навязали свои дневники,
письма, комплексы, ветви сирени.
За моею спиной у реки
вы толпитесь, печальные тени.
Уходи'те, вы слышите гул -
вроде грохота, грома, раската.
Может быть, и меня полоснул
тонким лезвием лучик заката.
Не один ещё юный кретин
вам доверит грошовое горе.
Вот и всё, я побуду один,
Александр, Иннокентий, Георгий.
1997
Вдоль канала
Когда идёшь вдоль чёрного канала
куда угодно, мнится: жизни мало,
чтоб до конца печального дойти.
Твой город спит. Ни с кем не по пути.
Так тихо спит, что кажется, возможно
любое счастье. Надо осторожно
шагать, чтоб никого не разбудить.
О, господи, как спящих не простить!
Как хочется на эти вот ступени
сесть и уснуть, обняв свои колени.
Как страшно думать в нежный этот час:
какая боль ещё разбудит нас...
1996, июнь
* * *
...Здесь до войны
был женский монастырь
и кладбище с прекрасными крестами.
Потом был парк, а нынче тут - пустырь
под бледно небесами.
И я всегда, когда гуляю здесь,
воображаю с некой страшной силой:
в осеннем парке, летнем ли, бог весть,
монахиню над чёрною могилой.
И думаю: о жалкие умы,
предметы не страшатся разрушенья -
вернее, всё, что разрушаем мы,
в иное переходит измеренье.
И мне не страшно предавать словам
то чувство, что до горечи знакомо.
И я одной ногой гуляю там,
гуляя здесь, и знаешь, там я дома.
1996, март
* * *
Утро, и город мой спит.
Счастья и гордости полон,
нищий на свалке стоит -
глаз не отводит, глядит
на пустячок, что нашёл он.
Эдак посмотрит и так -
старый и жалкий до боли.
Милый какой пустяк.
Странный какой пустяк.
Баночка, скляночка, что ли.
Жаль ему баночки, жаль.
Что ж ей на свалке пылиться.
Это ведь тоже деталь
жизни - ах, скляночки жаль -
может, на что и сгодится.
Что если вот через миг
наши исчезнут могилы,
божий разгладится лик?
Значит, пристроил, старик?
Где приладил, мой милый...
1996
Костёр
Внезапный ветр огромную страну
Сдул с карты, словно скатерть - на пол.
Огромный город летом - что костёр,
Огонь, в котором - пёстрая одежда
И солнце. Нищие сидят
На тротуарах в чёрных одеяньях.
И выглядят как угли. У девчушки
На голове алеет бант - она
Ещё немножко тлеет.
Я ищу
В пустом кармане что -
может, деньги
Для нищих, может, справку в небеса,
Где сказано, что я не поджигатель.
...А для пожарника я просто слаб.
1993, ноябрь
Трамвайный романс
В стране гуманных контролёров
я жил - печальный безбилетник.
И никого не покидая,
стихи Ива ́ нова любил.
Любил пусто ́ ты коридоров,
зимой ходил в ботинках летних.
В аду искал приметы рая
и, веря, крестик не носил.
Я ездил на втором и пятом,
скажи - на первом и последнем,
глядел на траурных красоток,
выдумывая имена.
Когда меня ругали матом -
каким нахалом вредным,
я был до омерзенья кроток,
и думал - благо, не война.
И стоя над большой рекою
в прожилках дёгтя и мазута,
я видел только небо в звёздах
и, вероятно, умирал.
Со лба стирая пот рукою,
я век укладывал в минуту.
Родной страны вдыхая воздух,
стыдясь, я чувствовал - украл.
1995, июль
* * *
Ангинный, бледный полдень на Урале.
На проводах - унылые вороны,
Как ноты, не по ним ли там играли
Марш - во дворе напротив -
похоронный?
Так мрачно шли, и маялись, и жили.
Но мне приснилось, будто все устали
От волокиты грустной - как чужие
- Скорей бы, - подходили, целовали.
В автобус гроб февральский погрузили,
Ладошки к окнам - тёплые - прижали.
Хотя б немножко вы поголосили,
Зачем - скажите мне - вы так устали?
Но вдруг, когда землёю человечьей
Обрызгали колёса - чёрной кровью:
- О, Боже, ты не дал мне жизни вечной,
Дай сердце - описать её с любовью.
1995
* * *
Мотивы, знакомые с детства,
про алое пламя зари,
про гибель, про цели и средства,
про Родину, чёрт побери.
Опять выползают на сушу,
маячат в трамвайном окне.
Спаси мою бедную душу
и память оставь обо мне.
Чтоб жили по вечному праву
все те, кто для жизни рождён,
вали меня навзничь в канаву,
омой моё сердце дождём.
Так зелено и бестолково,
но так хорошо, твою мать,
как будто последнее слово
мне сволочи дали сказать.
1998
* * *
Спит моё детство, положило ручку,
ах, да под щёчку.
А я ищу фломастер, авторучку -
поставить точку
под повестью, романом и поэмой
или сонетом.
Зачем твой сон не стал моею темой?
Там за рассветом
идёт рассвет. И бабочки летают,
Они летают,
и ни хрена они не понимают,
что умирают.
Возможно, впрочем, ты уже допетрил,
лизнув губою
травинку - с ними музыка и ветер.
А смерть - с тобою.
Тогда твой сон трагически окрашен
таким предметом:
ты навсегда бессилен, но бесстрашен.
С сачком при этом.
1998
Фотография с моря
Так поля у шляпы свисали, словно
это были уши - печальный слоник,
на трубе играя, глядел на волны.
И садились чайки на крайний столик.
Эти просто пили, а те - кричали.
И, встречая осень, гудел кораблик...
Он играл на чёрном, как смерть,
причале -
выдувал луну, как воздушный шарик.
И казалось - было такое чувство, -
он уйдёт оттуда - исчезнет море,
пароходик, чайки. Так станет грустно.
И прольёшь не пиво, мой друг, а горе.
Потому и лез и совал купюры -
чтоб играл, покуда сердца горели:
"Для того придурка, для этой дуры,
для меня, мой нежный, на самом деле".
1995, ноябрь
* * *
Играл скрипач в осеннем сквере, я тихо слушал и стоял.
Я был один - по крайней мере, я никого не замечал.
Я плакал, и дрожали руки, с пространством переплетены.
И пусть я знал, что лгали звуки, но я боялся тишины.
И пусть я был в том состояньи, в котором смерти ждёт больной,
но в страшном этом ожиданьи я разговаривал с собой.
Я был вполне подобен богу, я всё на свете понимал.
Скрипач закончил понемногу, я тихо слушал и стоял.
Стоял и видел чьи-то лица и слышал говорок чужой.
Так жизни свежая страница открылась вся передо мной.
...Мир станет чистым, будет новым, подобным сердцу твоему,
лишь подчеркни молчанье словом и музыкою - тишину...
1995, ноябрь
* * *
Петербургским корешам
Дождь в Нижнем Тагиле.
Лучше лежать в могиле.
Лучше б меня убили
дядя в рыжем плаще
с дядею в серой робе.
Лучше гнить в гробе.
Места добру-злобе
там нет вообще.
Жил-был школьник.
Типа чести невольник.
Сочинил дольник:
я вас любил.
И пошло-поехало.
А куда приехало?
Никуда не приехало.
Дождь. Нижний Тагил.
От порога до бога
пусто и одиноко.
Не шумит дорога.
Не горят фонари.
Ребром встала монета.
Моя песенка спета.
Не вышло из меня поэта,
чёрт побери!
1998
* * *
За проявленье вашей воли
вам суждено держать ответ.
Ба, ты всё та же, лес да поле!
Так начинается банкет,
и засыпает ваша совесть.
Честь? Это что ещё за новость!
Вы не из тех полукалек,
живущих в длительном подполье.
О, вы нормальный человек.
Вы слишком любите застолье.
Смеётесь, входите в азарт.
Петров, - орёте, - первый бард.
И обнимаетесь с Петровым.
И Пушкин, сидя на коне,
глядит милягой чернобровым,
таким простым домашним ге...
Стоп, фотография для прессы!
Аллея Керн. Я очень пьян.
Шарахаются поэтессы -
Нателлы, Стеллы и Агнессы.
Две трети пушкинских полян
озарены вечерним светом.
Типичный негр из МГУ
читает "Памятник". На этом,
пожалуй, завершить могу
рассказ ни капли не печальный.
Но пусть печален будет он:
я видел свет первоначальный,
был этим светом ослеплён.
Его я предал. Бей, покуда
ещё умею слышать боль,
или верни мне веру в чудо,
из всех контор меня уволь.
1998
Путешествие
Изрядная река вплыла в окно вагона.
Щекою прислонясь к вагонному окну,
я думал, как ко мне фортуна
благосклонна:
и заплачу' за всех, и некий дар верну.
Приехали. Поддав, сонеты прочитали,
сплошную похабель оставив на потом.
На пароходе в ночь отчалить полагали,
но пригласили нас
в какой-то важный дом.
Там были девочки: Маруся, Роза, Рая.
Им тридцать с гаком, все филологи оне.
И чёрная река от края и до края
на фоне голубом в распахнутом окне.
Читали наизусть Виталия Кальпиди.
И Дозморов Олег мне говорил: "Борис,
тут водка и икра,
Кальпиди так Кальпиди.
Увы, порочный вкус.
Смотри, не матерись".
Да я не матерюсь. Белеют пароходы
на фоне голубом в распахнутом окне.
Олег, я ошалел от водки и свободы,
и истина твоя уже открылась мне.
За тридцать, ну и что.
Кальпиди так Кальпиди.
Отменно жить: икра и водка.
Только нет,
не дай тебе Господь загнуться
в сей квартире,
где чтут подобный слог
и всем за тридцать лет.
Под утро я проснусь
и сквозь рваньё тумана,
тоску и тошноту, увижу за окном:
изрядная река, её названье - Кама.
Белеет пароход на фоне голубом.
1998
* * *
Учил меня, учил, как сочинять
стихи, сначала было интересно,
потом наскучило, а он опять:
да ты дикарь, да ты пришёл из леса,
да ты, туда-сюда, спустился с гор.
Я рассердился: кончен разговор,
в речах твоих оттенок нарциссизма
мерещится мне с некоторых пор.
Как хорошо, когда ты одинок,
от скуки сочинить десяток строк.
Как много может лёгкий матерок!
...А он не матерился - из снобизма.
1997
* * *
Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф
очень серьёзно относились к жизни:
никогда не улыбались,
не рассказывали анекдотов,
отдавали жён фараонам,
подставляли братьев,
сыновей своих предавали...
В этом смысле порядочнее
древние греки,
говорящие нам с улыбкой:
Бог во имя человека,
а не человек во имя Бога.
1996
* * *
Через парк по ночам я один возвращался домой.
О если б всё описать, что доро'гой случалось со мной -
скольких спас я девиц, распугал похотливых шакалов.
Сколько раз меня били подонки, ломали менты -
вырывался от них, матерился, ломился в кусты.
И от злости дрожал. И жена меня не узнавала в
этом виде. Ругалась, смеялась, но всё же, заметь,
соглашалась со мною, пока не усну, посидеть.
Я, как бог, засыпал, и мне снились поля золотые.
Вот в сандалиях с лирой иду, собираю цветы... И
вдруг встречается мне Аполлон, поэтический бог:
"Хорошо сочиняешь, да выглядишь дурно, сынок".
1996
* * *
Я музу юную, бывало,
встречал в подлунной стороне.
Она на дудочке играла,
я слушал, стоя в стороне.
Но вдруг милашку окружали,
как я, такие же юнцы.
И, грянув хором, заглушали
мотив прелестный, подлецы.
И думал я: небесный боже,
узрей сие, помилуй мя,
ведь мне с тобой дарован тоже
осколок твоего огня,
дай поорать!
1998
* * *
Музыка жила во мне,
Никогда не умолкала,
Но особенно во сне
Эта музыка играла.
Словно маленький скрипач,
Скрипача того навроде,
Что играет, неудач-
Ник, в подземном переходе.
В переходе я иду -
Руки в брюки, кепка в клетку -
И бросаю на ходу
Этой музыке монетку.
Эта музыка в душе
Заиграла много позже -
До неё была уже
Музыка, играла тоже.
Словно спившийся трубач
Похоронного набора,
Что шагает мимо прач-
Чечной, гаража, забора.
На гараж, молокосос,
Я залез, сижу, свалиться
Не боюсь, в футболке "КРОСС",
Привезённой из столицы.
Автомобиль
В ночи, в чужом автомобиле,
почти бессмертен и крылат,
в каком-то допотопном стиле
сижу, откинувшись назад.
С надменной лёгкостью водитель
передвигает свой рычаг.
И желтоватый проявитель
кусками оживляет мрак.
Встаёт вселенная из мрака -
мир, что построен и забыт.
Мелькнёт какой-нибудь бродяга
и снова в вечность улетит.
Почти летя, скользя по краю
в невразумительную даль,
я вспоминаю, вспоминаю,
и мне становится так жаль.
Я вспоминаю чьи-то лица,
всё, что легко умел забыть,
над чем не выпало склониться,
кого не вышло полюбить.
И я жалею, я жалею,
что раньше видел только дым,
что не сумею, не сумею
вернуться новым и другим.
В ночи, в чужом автомобиле
я понимаю навсегда,
что, может, только те и были,
в кого не верил никогда.
А что? Им тоже неизвестно,
куда шофёр меня завёз.
Когда-нибудь заглянут в бездну
глазами, светлыми от слёз.
1996
* * *
Осколок света на востоке.
Дорога пройдена на треть.
Не убивай меня в дороге,
позволь мне дома умереть.
Не высылай за мной по шпалам,
горящим розовым огнём,
дегенерата с самопалом,
неврастеничку с лезвиём.
Не поселяй в мои плацкарты
нацмена с города Курган,
что упадает рылом в нарды,
освиневая от ста грамм. -
Да будет дождь, да будет холод,
не будет золота в горсти,
дай мне войти в такой-то город,
такой-то улицей пройти.
Чуть постоять, втянуть ноздрями
под фонарём гнилую тьму.
Потом помойками, дворами -
дорога к дому моему.
И перед тем, как рухну в ноги,
заплачу, припаду к груди,
что пса какого, на пороге
прихлопни или пощади.
1998, д. Сартасы
* * *
Июньский вечер. На балконе
уснуть, взглянув на небеса.
На бесконечно синем фоне
горит заката полоса.
А там - за этой полосою,
что к полуночи догорит -
угадываемая мною
музы́ка некая звучит.
Гляжу туда и понимаю,
в какой надёжной пустоте
однажды буду и узнаю:
где проиграл, сфальшивил где.
1998
* * *
С трудом закончив вуз технический,
В НИИ каком-нибудь служить.
Мелькать в печати перьодической,
Но никому не говорить.
Зимою, вечерами мглистыми
Пить анальгин, шипя "говно".
Но исхудав, перед дантистами
Нарисоваться всё равно.
А по весне, когда акации
Гурьбою станут расцветать,
От аллергической реакции
Чихать, сморкаться, и чихать.
В подъезде, как инстинкт советует,
Пнуть кошку в ожиревший зад.
Смолчав и сплюнув где не следует,
Заматериться невпопад.
И только раз - случайно, походя -
Открыто поглядев вперед,
Услышать, как в груди шарахнулась
Душа, которая умрёт.
1998
* * *
Долго мы вместе учились в средней школе,
Но разошлись наши интересы потом.
Иногда они всё же сходятся на алкоголе -
Старомодно, не спорю. Разбужен твоим звонком,
Выхожу из подъезда - наматывать мили
По ночному городу, вдруг да откроется нам,
Словно герою какой-то картины Феллини,
Свалка ли, стройка за мрачным забором... А там
Странная девочка - сколько лукавства во взоре!
Сразу же станет вольготно и страшно душе.
Что же, садись в свой иностранный "феррари".
Ты паникуешь, а я её видел уже.
1998
* * *
Алексею Пурину
Воро́тишься с очередной свистопляски,
заснёшь, а проснёшься: обидно до слёз.
Григорьева Фетушка в крытой коляске
пьянющего в сиську по Питеру вёз.
Знакомые и незнакомые лица
двоятся, троятся в твоей голове.
Одеться, спуститься и опохмелиться
бодяжною водкой в ближайшем кафе.
А-ну, за Григорьева за Аполлона.
В башке басана прочитай наизусть.
Не будет трагедии, крика и стона,
да будет отныне веселье и грусть.
Ах, строчка чужая как в заднице шило.
Ах, строчка чужая иглою в душе.
Одно удручает, уже это было
и кончилось очень херово уже.
1998
* * *
В номере гостиничном, скрипучем,
грешный лоб ладонью подперев,
прочитай стихи о самом лучшем,
всех на свете бардов перепев.
Чтобы молодящиеся Гали,
позабыв ежеминутный хлам,
горнишные за стеной рыдали,
растирали краску по щекам.
О России, о любви, о чести,
и долой - в чужие города.
Если жизнь всего лишь форма лести,
больше хамства: водки, господа!
Чтоб она трещала и ломалась,
и прощалась с ней душа жива.
В небесах музы́ка сочинялась
вечная - на смертные слова.
1997
Петербургским друзьям
Мне цыганка нагадала гибель в городе чужом.
От чего - не рассказала, но спасибо и на том.
Не столь чётко, но, конечно, я в виду её имел
с той поры, как быть поэтом автономным захотел,
Афанасия оставил, Аполлона прочитал -
то "Флоренции", но лучше я "Венгерке" подражал.
Басаната, басаната. Но пора за каждый звук
расплатиться, так-то, друг, и - горька твоя расплата.
Гей, кромешным ацетоном отдающий суррогат.
За судьбу плати с процентом, да не жмоться, так-то брат.
А, "Цыганская венгерка"? Ну-ка, сбацай наизусть.
Вот, ребяты демократы, вся любовь моя и грусть.
Закурить, опохмелившись, поглядеть на облака,
что летят над головою из далёка-далека,
в граде Екатеринбурге, с гордо поднятой главой
за туманом различая бездну смерти роковой.
1998
* * *
Бог положительно выдаст, верней - продаст.
Свинья безусловно съест. Остальное сказки.
Врубившийся в это, стареющий педераст
сочиняет любовную лирику для отмазки.
Фигурируют женщины в лирике той.
Откровенные сцены автор строго нормирует.
Фигурирует так называемый всемирный запой.
Совесть, честь фигурируют.
Но Бог не дурак, он по-своему весельчак:
кому в глаз кистенём, кому сапогом промеж лопаток,
кому арматурой по репе. А этому так:
обпулять его проволочками из рогаток!
1998
* * *
Я был учеником восьмого класса -
с товарищами, на газон присев,
мы выпили. Магнитофон валялся
в кустарнике, пел Вилли Токарев.
Про голых баб, про жуликов, про что бы
ни пел, его любил и одобрял
достойный слушатель.
Он пел про небоскрёбы,
когда я отшатнулся и сблевал.
Быть, быть как все -
желанье Пастернака -
моей душой, которая чиста
была, владело полностью, однако
мне боком вышла чистая мечта.
Смотри, они жалеют и смеются.
Не дрейфь, будь важен и нетороплив.
Всё повторится - други не вернутся,
но возвратится песенка, мотив.
А - смысл не тот, не те слова, вернее,
не та любовь, разлука и печаль.
В пустом подъезде сядь на батарею,
согрей ладони - им тебя не жаль.
Ты выкарабкался, сам научился
тому-сему, плюс подошёл к вещам
особенным, ушёл и возвратился,
и никогда не плачешь по ночам.
1998
* * *
...Кто тебе приснился? Ёжик!
Ну-ка, ну-ка расскажи.
Редко в сны заходят всё же к
нам приятели ежи.
Чаще нам с тобою снятся
дорогие мертвецы,
безнадёжные страдальцы,
палачи и подлецы.
Но скажи, на что нам это,
кроме страха и седин:
просыпаемся от бреда,
в кухнях пьём валокордин.
Ёжик - это милость рая,
говорю тебе всерьёз,
к жаркой ручке припадая
и растроганный до слёз.
1997
* * *
В России расстаются навсегда.
В России друг от друга города
столь далеки,
что вздрагиваю я, шепнув "прощай".
Рукой своей касаюсь невзначай
её руки.
Длинною в жизнь любая из дорог.
Скажите, что такое русский бог?
"Конечно, я
приеду". Не приеду никогда.
В России расстаются навсегда.
"Душа моя,
приеду". Через сотни лет вернусь.
Какая малость, милость, что за грусть -
мы насовсем
прощаемся. "Дай капельку сотру".
Да, не приеду. Видимо, умру
скорее, чем.
В России расстаются навсегда.
Ещё один подкинь кусочек льда
в холодный стих.
...И поезда уходят под откос,
...И самолёты, долетев до звёзд,
сгорают в них.
1996, апрель
* * *
И.
Ты помнишь тот старый фонтан,
забытый в осеннем саду?
Молочный, как известь, туман
и розы на чёрном пруду?
Как мраморный тот истукан
грустил, что тонули цветы?
И щёки в извилинках ран
от вечной, от горькой воды?
Так мило, как будто во сне,
я нынче тебе улыбнусь.
Да будет на алой волне
пронзительней глаз моих грусть.
Когда ж мой настанет конец,
и стану я бледен как мел,
ты вспомни про чёрный рубец -
я плакал, я жил, я жалел.
1995, январь
* * *
Не признавайтесь в любви никогда,
чувства свои выдавая, не рвите,
"нет" ожидая в ответ или "да", -
самые тонкие, тайные нити;
ты улыбнёшься, и я улыбнусь,
я улыбнулся, и ты улыбнулась,
счастье нелепое, светлая грусть:
я не люблю я люблю не люблю вас
1996
* * *
Я никогда не напишу
О том, как я люблю Россию...
Роман Тягунов
Как некий - скажем - гойевский урод
Красавице в любви признаться, рот
Закрыв рукой, не может, только пот
Лоб леденит, до дрожи рук и ног
Я это чувство выразить не мог,
Ведь был тогда с тобою рядом Бог.
Теперь, припав к мертвеющей траве,
Ладонь прижав к лохматой голове,
О страшном нашем думаю родстве.
И говорю: люблю тебя, да-да,
До самых слёз, и нет уже стыда,
Что некрасив, ведь ты идёшь туда,
Где боль и мрак, где илистое дно,
Где взор с осадком, словно то вино...
Иль я иду, а впрочем - всё одно.
1995, март
* * *
Век на исходе. Скоро календарь
сойдёт на ноль, как счётчик у таксиста.
Забегаешь по комнате так быстро,
как будто ты ещё не очень стар.
Остановись, отпразднуем сей день.
Пусть будет лень,
и грязь, и воздух спёртый.
Накроем стол.
И пригласим всех мёртвых.
Век много душ унёс. Пусть будут просто
пустые стулья. Сядь и не грусти.
Налей вина, и думай, что они
под стол упали, не дождавшись тоста.
1993
* * *
Много видел. Не много жил,
Где искусством почти не пахло.
Мало знал. Тяжело любил.
Больше боли боялся бессилья и страха.
Моё тело висит, словно плащ на гвозде,
на взгляде, который прикован к звезде.
И она не мала. Далека.
Я далёк от людей. Я стою у окна
и ищу в себе силы
не сдаваться и ждать.
И в округе до чёрта камней.
Хватит, чтобы кидать.
Или строить могилы.
1993
Завещание
В.С.
Договоримся так: когда умру,
Ты крест поставишь над моей могилой.
Пусть внешне будет он как все кресты,
Но мы, дружище, будем знать с тобою,
Что это - просто роспись. Как в бумаге
Безграмотный свой оставляет след,
Хочу я крест оставить в этом мире.
Хочу я крест оставить. Не в ладах
Я был с грамматикою жизни.
Прочёл судьбу, но ничего не понял,
К одним ударам только и привык,
К ударам, от которых словно зубы,
Выпадывают буквы изо рта.
И пахнут кровью.
1993, ноябрь
* * *
...Ветром ли кепку собьёт с головы, и,
охнув, за ней наклоняюсь устало.
Мёртвые листья, мои золотые,
полная кепка - как этого мало.
Я повторю тебе жизнь без запинки,
не упущу и бездарной недели.
Вот из дождя, как на том фотоснимке,
мой силуэт проступил еле-еле.
...Вот и боюсь каждой осенью, милый,
только отправятся за море птицы,
только запахнет землёй и могилой,
что не успею с тобою проститься.
1995, сентябрь
* * *
Благодарю за всё. За тишину.
За свет звезды, что спорит с темнотою.
Благодарю за сына, за жену.
За музыку блатную за стеною.
За то благодарю, что скверный гость,
я всё-таки довольно сносно встречен -
и для плаща в прихожей вбили гвоздь,
и целый мир взвалили мне на плечи.
Благодарю за детские стихи.
Не за вниманье вовсе, за терпенье.
За осень. За ненастье. За грехи.
За неземное это сожаленье.
За бога и за ангелов его.
За то, что сердце верит, разум знает.
Благодарю за то, что ничего
подобного на свете не бывает.
За всё, за всё. За то, что не могу,
чужое горе помня, жить красиво.
Я перед жизнью в тягостном долгу,
и только смерть щедра и молчалива.
За всё, за всё. За мутную зарю.
За хлеб. За соль. Тепло родного крова.
За то, что я вас всех благодарю,
за то, что вы не слышите ни слова.
1996, март
Типа песня
Вот колечко моё, донашивай, после сыну отдашь, сынок,
А про трещинку не расспрашивай по рубину наискосок:
В общежитии жили азеры, торговали туда-сюда,
Здоровенные как бульдозеры - ты один не ходи туда.
Ну а если тебя обидели, ты компанию собери,
как без курева в вытрезвителе люди голые ждут зари.
Жди возмездия, жди возмездия и не рыпайся сгоряча.
Так серебряная поэзия ждёт рубинового луча.
Мы гурьбою пошли по краешку тротуара - должок вернуть,
я колечко кровавым камешком вниз забыл перевернуть.
Ты колечко кровавым камешком вниз забудешь перевернуть,
шапку на́ лоб надвинуть, варежки скинуть с ручек не позабудь.
Стихи на стене
44 строки, нанесенные Б. Рыжим на кирпичную стену балкона: 1996-2001.
1.
И воют жалобно телеги,
И плещет взорванная грязь,
И над каналом спят калеки,
К пустым бутылкам прислоняясь.
2.
И остается расплатиться,
И выйти заживо во тьму.
Поет магнитофон таксиста
Плохую песню про тюрьму.
3.
И нам понять доступно это,
И выразить дана нам мощь:
Приют поэта, дом поэта -
Прихожая небесных рощ.
4.
И под божественной улыбкой,
Уничтожаясь на лету,
Ты полетишь как камень зыбкий
В сияющую пустоту.
5.
И Баден мой, где я, как инок,
Весь в созерцанье погружен,
Уж завтра будет - шумный рынок,
Дом сумасшедших и притон.
6.
И бесконечной челобитной
О справедливости людской
Чернеет на скамье гранитной
Самоубийца молодой.
7.
И тот прелестный неудачник
С печатью знанья на челе
Был, вероятно, первый дачник
На расцветающей земле.
8.
Да и зачем цветы так зыбки,
Так нежны в холоде плиты?
И лег бы тенью свет улыбки
На изможденные черты.
9.
Мне тяжело, мне слишком гадко,
Что эта сердца простота,
Что эта жизни лихорадка -
И псами храма понята.
10.
А сам закат в волнах эфира
Такой, что мне не разобрать:
Конец ли дня, конец ли мира
Иль тайна тайн во мне опять?
11.
И стоя под аптечной коброй,
Взглянуть на ликованье зла
Без зла - не потому, что добрый,
А потому, что жизнь прошла.
* * *
О чем молчат седые камни?
Зачем к молчанию глуха
земля? Их тяжесть так близка мне.
А что касается стиха -
в стихе всего важней молчанье, -
верны ли рифмы, не верны.
Что слово? Только ожиданье
красноречивой тишины.
Стих отличается от прозы
не только тем, что сир и мал.
Я утром ранним с камня слезы
ладонью теплой вытирал.
Свиданье Гектора с Андромахой
1.
Был воздух так чист: до молекул, до розовых пчел,
до синих жучков, до зеленых стрекоз водорода...
Обычное время обычного теплого года.
Так долго тебя я искал - и так скоро нашел
у Скейских ворот, чтоб за Скейские выйти ворота.
2.
При встрече с тобой смерть-уродка стыдится себя.
Младенца возьму - и мои безоружны ладони
на фоне заката, восхода, на солнечном фоне.
Но миг - и помчишься, любезного друга стыдя, -
где все перемешано: боги, и люди, и кони.
3.
Стучит твое сердце, и это единственный звук,
что с морем поспорит, шумящим покорно и властно.
И жизнь хороша, и, по-моему, смерть не напрасна.
Здесь, в Греции, все. даже то, что ужасно, мой друг,
пропитано древней любовью, а значит - прекрасно.
* * *
... Вчерашний дождь тебя откинул
от спекшихся в тумане окон,
седых волос закинув гриву
за ржавый гребень горизонта...
Мне остается только волос
твой разыскав, зажать в ладони
и заглянуть в глазницы окон,
услышав чей-то черствый голос:
"Все оказалось много проще,
воспринимай как божий дар
вчерашний дождь, швырнувший клочья
твоих небес на тротуар".
* * *
Так кончается день на краю окна.
Так приходит сон, и рифмуешь наспех
"ночь" и "прочь". Так стоит на столе бокал.
Так смеется небо однозубой пастью.
Так лежат на столе два пустых листа,
будто ангел-хранитель в связи с сезоном
сбросил крылья (листы), что твой лось - рога,
и ушел в ночи, потоптав газоны.
Так пускают корни в тебя дожди,
и толчешь "судьба", как капусту в ступе,
кулаком в груди. Так кончают жить.
Так пылится тень, словно абрис трупа.
Так глядишь на мир через жабры век:
как сложна хиромантия троп, дорог.
Бог жизнь подарил тебе, но затем,
чтобы ты умереть не колеблясь мог.
Элегия Эле
Как-то школьной осенью печальной,
от которой шел мороз по коже,
наши взгляды встретились случайно -
ты была на ангела похожа.
Комсомольские бурлили массы,
в гаражах курили пионеры.
Мы в одном должны учиться классе,
собрались на встречу в школьном сквере.
В белой блузке,с личиком ребенка,
слушала ты речи педагога.
Никого не слушал, думал только:
милый ангел, что в тебе земного.
Миг спустя, любуясь башмаками,
мог ли ведать, что смотрел
моими школьными и синими глазами
Бог - в твои небесно-голубые.
Знал ли - не пройдет четыре года,
я приеду с практики на лето,
позвонит мне кто-нибудь - всего-то
больше нет тебя, и все на этом.
Подойти к окну. И что увижу?
Только то, что мир не изменился
от Москвы - как в песенке - и ближе.
Все живут. Никто не застрелился.
И победно небеса застыли.
По стене сползти на пол бетонный,
чтоб он вбил навеки в сей затылок
память, ударяя монотонно.
Ты была на ангела похожа,
как ты умерла на самом деле.
Эля! - восклицаю я. - О Боже!
В потолок смотрю и плачу, Эля.
1994, октябрь
7 ноября
…До боли снежное и хрупкое
сегодня утро, сердце чуткое
насторожилось, ловит звуки.
Бело пространство заоконное -
мальчишкой я врывался в оное
в надетом наспех полушубке.
В побитом молью синем шарфике
я надувал цветные шарики.
…Звучали лозунги и речи…
Где песни ваши, флаги красные,
вы сами, пьяные, прекрасные,
меня берущие на плечи?
***
Ходил-бродил по свалке нищий
и штуки-дрюки собирал -
разрыл клюкою пепелище,
чужие крылья отыскал.
Теперь лети. Лети, бедняга.
Лети, не бойся ничего.
Там, негодяй, дурак, бродяга,
ты будешь ангелом Его.
Но оправданье было веским,
он прошептал в ответ: "Заметь,
мне на земле проститься не с кем,
чтоб в небо белое лететь".
* * *
Читаю "Фантазию" Фета -
так голос знаком и размер,
как будто, как будто я где-то
встречал его.
Так, например,
"Балладу" другого поэта
мне боль помешала забыть.
И мне не обидно за Фета,
что Фету так весело жить, -
фонтан, соловьиные трели
доходят до самых-сердец.
Но, милые, вы проглядели
"Фантазии" Фета конец.
Ну что ж, что прекрасна погода,
что души витают, любя, -
всегда ведь находится кто-то,
кто горечь берет на себя,
во всем разобравшись.
Но все же
во всем разобраться нельзя.
О, как интонации схожи
у счастья и горя, друзья!
* * *
Маленький, сонный, по черному льду
в школу - вот-вот упаду - но иду.
Мрачно идет вдоль квартала народ.
Мрачно гудит за кварталом завод.
"...Личико, личико, личико, ли…
будет, мой ангел, чернее земли.
Рученьки, рученьки, рученьки, ру...
будут дрожать на холодном ветру.
Маленький, маленький, маленький, ма…-
в ватный рукав выдыхает зима:
- Аленький галстук на тоненькой ше...
греет ли, мальчик, тепло ли душе?" ...
…Все, что я понял, я понял тогда:
нет никого, ничего, никогда.
Где бы я ни был - на черном ветру
в черном снегу упаду и умру.
Будет завод надо мною гудеть.
Будет звезда надо мною гореть.
Ржавая, в странных прожилках, звезда,
и - никого, ничего, никогда.
Стансы
Евгении Извариной
Фонтан замерз. Хрустальный куст,
сомнительно похожий на
сирень. Каких он символ чувств -
не ведаю. Моя вина.
Сломаем веточку - не хруст,
а звон услышим: "дин-дина".
Дружок, вот так застынь и ты
на миг один. И, видит бог,
среди кромешной темноты
и снега - за листком листок -
на нем распустятся листы.
Такие нежные, дружок.
И звезд печальных, может быть,
прекрасней ты увидишь цвет.
Ведь только так и можно жить -
судьба бедна. И скуден свет
и жалок. Чтоб его любить,
додумывай его, поэт.
За мыслью - мысль. Строка - к строке.
Дописывай. И бог с тобой.
Нужна ль тоска, что вдалеке,
когда есть сказка под рукой.
Хрустальный куст. В твоей руке
Так хрупок листик ледяной.
1995, октябрь
* * *
Когда умирают фонтаны -
львы, драконы, тритоны, -
в какие мрачные страны
летят их тяжелые стоны?
В старом стриженом парке осень.
В чаще сидит лягушка.
О, не ударься оземь,
я только шепнуть на ушко
к тебе наклонюсь тихонько,
осенен и обессилен,
словно от жизни дольку
еще одну отломили:
"Чем дальше, тем тяжелее.
Скоро все скроет снегом -
чужой дворец и аллеи,
лягушку и человека.
Ты не различишь в тумане
щеки мои и слякоть.
Когда умирают фонтаны,
людям положено плакать".
1994, сентябрь Петергоф
* * *
Что сказать о мраморе - я влюблен в руины:
пыльные, невзрачные, странные картины...
Право же, эпитетов всех не перечислю.
Мысль, что стала статуей, снова стала мыслью.
Где она, бессмертная, грозная, витает?
Где художник траурный, что ее поймает?
Но однажды - будь она демон или, птица -
в ручку, в грудь холодную перевоплотится.
Может, в строки грустные, теплые, больные, -
бесконечно ясные, но совсем чужие.
Чтобы - как из мрамора - мы с тобой застыли,
прочитав, обиделись, вспомнили, простили.
Не грусти на кладбище и не плачь, подруга, -
дважды оправдается, трижды эта мука.
Пью за смерть Денисьевой, вспоминаю Трою,
вижу жизнь, что рушится прямо предо мною.
* * *
Так просидишь у вас весь вечер,
а за окошко глянешь - ночь.
Ну что ж, друзья мои, до встречи,
пора идти отсюда прочь.
И два часа пешком до центра.
И выключены фонари.
А нет с собою документа,
так хоть ты что им говори.
Но с кем бы я ни повстречался,
Какая бы со мной беда,
я не кричал и не стучался
в чужие двери никогда.
Зачем - сказали б - смерть принес ты,
накапал кровью на ковры…
И надо мной мерцали звезды,
летели годы и миры.
* * *
... поздним вечером на кухонном балконе,
закурив среди несданной стеклотары,
ты увидишь небеса как на ладони
и поймешь, что жизнь твоя пройдет недаром.
В черном мире под печальными звездами.
То - случайная возможность попрощаться
с домочадцами, с любимыми, с друзьями.
С тем, что было. С тем, что есть. И с тем, что будет.
1994, июнь
* * *
Когда концерт закончится и важно,
как боги, музыканты разойдутся,
когда шаги, прошелестев бумажно,
с зеленоватой тишиной сольются,
когда взметнутся бабочки и фраки
закружатся, как траурные птицы,
вдруг страшные появятся во мраке -
бескровные, болезненные - лица.
И первый, не скрывая нетерпенья,
кивнет, срывая струны, словно нити,
Связующие вечность и мгновенье:
"Ломайте скрипки, музыку ищите!"
* * *
Было все как в дурном кино,
но без драчек и красных вин -
мы хотели расстаться, но
так и шли вдоль сырых витрин.
И - ценитель осенних драм,
соглядатай чужих измен -
сквозь стекло улыбался нам
мило английский манекен.
Улыбался, как будто знал
весь расклад - улыбался так.
"Вот и все, - я едва шептал, -
ангел мой, это добрый знак..."
И - дождливый - светился ЦУМ
грязно-желтым ночным огнем.
"Ты запомни его костюм -
я хочу умереть в таком..."
1995. Август. Екатеринбург
Золотые сапожки
Я умру в старом парке
на холодном ветру.
Милый друг, я умру
у разрушенной арки, -
чтобы ангелу было
через что прилететь.
Листьев рваную медь
оборвать белокрыло.
Говорю, улыбаясь:
"На холодном ветру..."
Чтоб услышать к утру,
Как стучат, удаляясь
по осенней дорожке,
где лежат облачка,
два родных каблучка,
золотые сапожки.
* * *
Носик гоголевский твой,
Жанна, ручки, Жанна, ножки...
В нашем скверике листвой
все засыпаны дорожки.
Я брожу по ним один,
ведь тебя со мною нету.
Так дотянем до седин,
Жанна, Жанночка, Жаннетта -
говорю почти как Пруст,
только не кропаю прозы.
Без любимой даже куст
может вызвать наши слезы.
...Достаю, взирая вдаль,
папиросы из кармана -
Жанна, Жанна, как мне жаль,
как мне больно, Жанна, Жанна.
* * *
Я скажу тебе тихо так, чтоб не услышали львы,
ибо знаю их норов, над обсидианом Невы.
Ибо шпиль-перописец выводит на небе "прощай",
я скажу тебе нежно, мой ангел, шепну невзначай.
Все темней и темней и страшней и прохладней вокруг.
И туда, где теплей, - скоро статуи двинут на юг.
Потому и скажу, что мы вместе останемся здесь:
вся останешься ты, и твой спутник встревоженный - весь.
Они грузно пройдут, на снегу оставляя следы,
мимо нас навсегда, покидая фасады, сады.
Они жутко пройдут, наши смертные лица презрев.
Снисходительней будь, не к лицу нам, любимая, гнев.
Мы проводим их молча и после не вымолвим слов,
ибо с ними уйдет наше счастье и наша любовь.
Отвернемся, заплачем, махнув им холодной рукой
в Ленинграде - скажу - в Петербурге над черной рекой.
1994
Олегу Дозморову от Бориса Рыжего
Мысль об этом леденит: О
лег, какие наши го
ды, а сердце уж разбито,
нету счастья у него,
хоть хорошие мы поэ
ты, никто не любит на
с - человечество слепое,
это все его вина,
мы погибнем, мы умрем, О
лег, с тобой от невнима
ния - это так знакомо -
а за окнами зима,
а за окнами сугробы,
неуютный грустный вид.
Кто потащит наши гробы,
Кто венки нам подарит?
1996
* * *
Над домами, домами, домами
голубые висят облака -
вот они и останутся с нами
на века, на века, на века.
Только пар, только белое в синем
над громадами каменных плит…
никогда никуда мы не сгинем,
Мы прочней и нежней, чем гранит.
Пусть разрушатся наши скорлупы,
геометрия жизни земной -
оглянись, поцелуй меня в губы,
дай мне руку, останься со мной.
А когда мы друг друга покинем,
ты на крыльях своих унеси
только пар, только белое в синем,
голубое и белое в си…