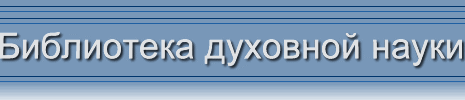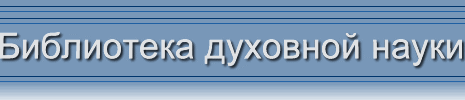Смеляков Ярослав Васильевич (1913-1972) Избранные стихотворения
ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА ЛИДА
Вдоль маленьких домиков белых
акация душно цветет.
Хорошая девочка Лида
на улице Южной живет.
Ее золотые косицы
затянуты, будто жгуты.
По платью, по синему ситцу,
как в поле, мелькают цветы.
И вовсе, представьте, неплохо,
что рыжий пройдоха апрель
бесшумной пыльцою веснушек
засыпал ей утром постель.
Не зря с одобреньем веселым
соседи глядят из окна,
когда на занятия в школу
с портфелем проходит она.
В оконном стекле отражаясь,
по миру идет не спеша
хорошая девочка Лида.
Да чем же она хороша?
Спросите об этом мальчишку,
что в доме напротив живет.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встает.
Недаром на каменных плитах,
где милый ботинок ступал,
"Хорошая девочка Лида",-
в отчаяньи он написал.
Не может людей не растрогать
мальчишки упрямого пыл.
Так Пушкин влюблялся, должно быть,
так Гейне, наверно, любил.
Он вырастет, станет известным,
покинет пенаты свои.
Окажется улица тесной
для этой огромной любви.
Преграды влюбленному нету:
смущенье и робость - вранье!
На всех перекрестках планеты
напишет он имя ее.
На полюсе Южном - огнями,
пшеницей - в кубанских степях,
на русских полянах - цветами
и пеной морской - на морях.
Он в небо залезет ночное,
все пальцы себе обожжет,
но вскоре над тихой Землею
созвездие Лиды взойдет.
Пусть будут ночами светиться
над снами твоими, Москва,
на синих небесных страницах
красивые эти слова.
1940
* * *
Если я заболею,
к врачам обращаться не стану,
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.
Я ходил напролом.
Я не слыл недотрогой.
Если ранят меня в справедливых боях,
забинтуйте мне голову
горной дорогой
и укройте меня
одеялом
в осенних цветах.
Порошков или капель - не надо.
Пусть в стакане сияют лучи.
Жаркий ветер пустынь, серебро водопада -
Вот чем стоит лечить.
От морей и от гор
так и веет веками,
как посмотришь, почувствуешь:
вечно живем.
Не облатками белыми
путь мой усеян, а облаками.
Не больничным от вас ухожу коридором,
а Млечным Путем.
1940
ОПЯТЬ НАЧИНАЕТСЯ СКАЗКА...
Свечение капель и пляска.
Открытое ночью окно.
Опять начинается сказка
на улице, возле кино.
Не та, что придумана где-то,
а та, что течет надо мной,
сопутствует мраку и свету,
в пыли существует земной.
Есть милая тайна обмана,
журчащее есть волшебство
в струе городского фонтана,
в цветных превращеньях его.
Я, право, не знаю, откуда
свергаются тучи, гудя,
когда совершается чудо
шумящего в листьях дождя.
Как чаша содружества - брагой,
московская ночь до окна
наполнена темною влагой,
мерцанием капель полна.
Мне снова сегодня семнадцать.
По улицам детства бродя,
мне нравится петь и смеяться
под зыбкою кровлей дождя.
Я снова осенен благодатью
и встречу сегодня впотьмах
принцессу в коротеньком платье
с короной дождя в волосах.
1947
КЛАССИЧЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Как моряки встречаются на суше,
когда-нибудь, в пустынной полумгле,
над облаком столкнутся наши души,
и вспомним мы о жизни на Земле.
Разбередя тоску воспоминаний,
потупимся, чтоб медленно прошли
в предутреннем слабеющем тумане
забытые видения Земли.
Не сладкий звон бесплотных райских птиц -
меня стремглав Земли настигнет пенье:
скрип всех дверей, скрипенье всех ступенек,
поскрипыванье старых половиц.
Мне снова жизнь сквозь облако забрезжит,
и я пойму всей сущностью своей
гуденье лип, гул проводов и скрежет
булыжником мощенных площадей.
Вот так я жил - как штормовое море,
ликуя, сокрушаясь и круша,
озоном счастья и предгрозьем горя
с великим разнозначием дыша.
Из этого постылого покоя,
одну минуту жизни посуля,
меня потянет черною рукою
к себе назад всесильная Земля.
Тогда, обет бессмертия наруша,
я ринусь вниз, на родину свою,
и грешную томящуюся душу
об острые каменья разобью.
ЛЮБЕЗНАЯ КАЛМЫЧКА
Курить, обламывая спички,-
одна из тягостных забот.
Прощай, любезная калмычка,
уже отходит самолет.
Как летний снег, блистает блузка,
наполнен счастьем рот хмельной.
Глаза твои сияют узко
от наслажденья красотой.
Твой взгляд, лукавый и бывалый,
в меня, усталого от школ,
как будто лезвие кинжала,
по ручку самую вошел.
Не упрекая, не ревнуя,
пью этот стон, и эту стынь,
и эту горечь поцелуя.
Так старый беркут пьет, тоскуя,
свою последнюю полынь.
* * *
Вот женщина,
которая, в то время
как я забыл про горести свои,
легко несет недюжинное бремя
моей печали и моей любви.
Играет ветер кофтой золотистой.
Но как она степенна и стройна,
какою целомудренной и чистой
мне кажется теперь моя жена!
Рукой небрежной волосы отбросив,
не опуская ясные глаза,
она идет по улице,
как осень,
как летняя внезапная гроза.
Как стыдно мне,
что, живший долго рядом,
в сумятице своих негромких дел
я заспанным, нелюбопытным взглядом
еще тогда ее не разглядел!
Прости меня за жалкие упреки,
за вспышки безрассудного огня,
за эти непридуманные строки,
далекая красавица моя.
МАНОН ЛЕСКО
Много лет и много дней назад
жил в зеленой Франции аббат.
Он великим сердцеедом был.
Слушая, как пели соловьи,
он, смеясь и плача, сочинил
золотую книгу о любви.
Если вьюга заметает путь,
хорошо у печки почитать.
Ты меня просила как-нибудь
эту книжку старую достать.
Но тогда была наводнена
не такими книгами страна.
Издавались книги про литье,
книги об уральском чугуне,
а любовь и вестники ее
оставались как-то в стороне.
В лавке букиниста-москвича
все-таки попался мне аббат,
между штабелями кирпича,
рельсами и трубами зажат.
С той поры, куда мы ни пойдем,
оглянуться стоило назад -
в одеянье стареньком своем
всюду нам сопутствовал аббат.
Не забыл я милостей твоих,
и берет не позабыл я твой,
созданный из линий снеговых,
связанный из пряжи снеговой.
...Это было десять лет назад.
По широким улицам Москвы
десять лет кружился снегопад
над зеленым празднеством листвы.
Десять раз по десять лет пройдет.
Снова вьюга заметет страну.
Звездной ночью юноша придет
к твоему замерзшему окну.
Изморозью тонкою обвит,
до утра он ходит под окном.
Как русалка, девушка лежит
на диване кожаном твоем.
Зазвенит, заплещет телефон,
в утреннем ныряя серебре,
и услышит новая Манон
голос кавалера де Грие.
Женская смеется голова,
принимая счастие и пыл...
Эти сумасшедшие слова
я тебе когда-то говорил.
И опять сквозь синий снегопад
Грустно улыбается аббат.
1945(?)
ПАМЯТНИК
Приснилось мне, что я чугунным стал.
Мне двигаться мешает пьедестал.
В сознании, как в ящике, подряд
чугунные метафоры лежат.
И я слежу за чередою дней
из-под чугунных сдвинутых бровей.
Вокруг меня деревья все пусты,
на них еще не выросли листы.
У ног моих на корточках с утра
самозабвенно лазит детвора,
а вечером, придя под монумент,
толкует о бессмертии студент.
Когда взойдет над городом звезда,
однажды ночью ты придешь сюда.
Все тот же лоб, все тот же синий взгляд,
все тот же рот, что много лет назад.
Как поздний свет из темного окна,
я на тебя гляжу из чугуна.
Недаром ведь торжественный металл
мое лицо и руки повторял.
Недаром скульптор в статую вложил
все, что я значил и зачем я жил.
И я сойду с блестящей высоты
на землю ту, где обитаешь ты.
Приближусь прямо к счастью своему,
рукой чугунной тихо обниму.
На выпуклые грозные глаза
вдруг набежит чугунная слеза.
И ты услышишь в парке под Москвой
чугунный голос, нежный голос мой.
1946
КЛАДБИЩЕ ПАРОВОЗОВ
Кладбище паровозов.
Ржавые корпуса.
Трубы полны забвенья,
свинчены голоса.
Словно распад сознанья -
полосы и круги.
Грозные топки смерти.
Мертвые рычаги.
Градусники разбиты:
цифирки да стекло -
мертвым не нужно мерить,
есть ли у них тепло.
Мертвым не нужно зренья -
выкрошены глаза.
Время вам подарило
вечные тормоза.
В ваших вагонах длинных
двери не застучат,
женщина не засмеется,
не запоет солдат.
Вихрем песка ночного
будку не занесет.
Юноша мягкой тряпкой
поршни не оботрет.
Больше не раскалятся
ваши колосники.
Мамонты пятилеток
сбили свои клыки.
Эти дворцы металла
строил союз труда:
слесари и шахтеры,
села и города.
Шапку сними, товарищ.
Вот они, дни войны.
Ржавчина на железе,
щеки твои бледны.
Произносить не надо
ни одного из слов.
Ненависть молча зреет,
молча цветет любовь.
Тут ведь одно железо.
Пусть оно учит всех.
Медленно и спокойно
падает первый снег.
1946
ПОРТРЕТ
Сносились мужские ботинки,
армейское вышло белье,
но красное пламя косынки
всегда освещало ее.
Любила она, как отвагу,
как средство от всех неудач,
кусочек октябрьского флага -
осеннего вихря кумач.
В нем было бессмертное что-то:
останется угол платка,
как красный колпак санкюлота
и черный венок моряка.
Когда в тишину кабинетов
ее увлекали дела -
сама революция это
по каменным лестницам шла.
Такие на резких плакатах
печатались в наши года
прямые черты делегаток,
молчащие лица труда.
Лишь как-то обиженно жалась
и таяла в области рта
ослабшая смутная жалость,
крестьянской избы доброта.
Но этот родник ее кроткий
был, точно в уступах скалы
зажат небольшим подбородком
и выпуклым блеском скулы...
1946
ЗЕМЛЯ
Тихо прожил я жизнь человечью:
ни бурана, ни шторма не знал,
по волнам океана не плавал,
в облаках и во сне не летал.
Но зато, словно юность вторую,
полюбил я в просторном краю
эту черную землю сырую,
эту милую землю мою.
Для нее ничего не жалея,
я лишался покоя и сна,
стали руки большие темнее,
но зато посветлела она.
Чтоб ее не кручинились кручи
и глядела она веселей,
я возил ее в тачке скрипучей,
так, как женщины возят детей.
Я себя признаю виноватым,
но прощенья не требую в том,
что ее подымал я лопатой
и валил на колени кайлом.
Ведь и сам я, от счастья бледнея,
зажимая гранату свою,
в полный рост поднимался над нею
и, простреленный, падал в бою.
Ты дала мне вершину и бездну,
подарила свою широту.
Стал я сильным, как терн, и железным
даже окиси привкус во рту.
Даже жесткие эти морщины,
что по лбу и по щекам прошли,
как отцовские руки у сына,
по наследству я взял у земли.
Человек с голубыми глазами,
не стыжусь и не радуюсь я,
что осталась земля под ногтями
и под сердцем осталась земля.
Ты мне небом и волнами стала,
колыбель и последний приют...
Видно, значишь ты в жизни немало,
если жизнь за тебя отдают.
1945
МИЛЫЕ КРАСАВИЦЫ РОССИИ
В буре электрического света
умирает юная Джульетта.
Праздничные ярусы и ложи
голосок Офелии тревожит.
В золотых и темно-синих блестках
Золушка танцует на подмостках.
Наши сестры в полутемном зале,
мы о вас еще не написали.
В блиндажах подземных, а не в сказке
Наши жены примеряли каски.
Не в садах Перро, а на Урале
вы золою землю удобряли.
На носилках длинных под навесом
умирали русские принцессы.
Возле, в государственной печали,
тихо пулеметчики стояли.
Сняли вы бушлаты и шинели,
старенькие туфельки надели.
Мы еще оденем вас шелками,
плечи вам согреем соболями.
Мы построим вам дворцы большие,
милые красавицы России.
Мы о вас напишем сочиненья,
полные любви и удивленья.
1945
ДЕНИС ДАВЫДОВ
Утром, вставя ногу в стремя,-
ах, какая благодать!-
ты в теперешнее время
умудрился доскакать.
(Есть сейчас гусары кроме:
наблюдая идеал,
вечерком стоят на стреме,
как ты в стремени стоял.
Не угасло в наше время,
не задули, извини,
отвратительное племя:
"Жомини да Жомини".)
На мальчишеской пирушке
В Церском,- чтоб ему!- Селе
были вы - и ты и Пушкин -
оба-два навеселе.
И тогда тот мальчик черный
прокурат и либерал,
по-нахальному покорно
вас учителем назвал.
Обождите, погодите,
не шумите - боже мой!-
раз вы Пушкина учитель,
значит, вы учитель мой!
1966
СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ФОТОАТЕЛЬЕ
Живя свой век грешно и свято,
недавно жители земли,
придумав фотоаппараты,
залог бессмертья обрели.
Что - зеркало?
Одно мгновенье,
одна минута истекла,
и веет холодом забвенья
от опустевшего стекла.
А фотография сырая,
продукт умелого труда,
наш облик точно повторяет
и закрепляет навсегда.
На самого себя не трушу
глядеть тайком со стороны.
Отретушированы души
и в список вечный внесены.
И после смерти, как бы дома,
существовать доступно мне
в раю семейного альбома
или в читальне на стене.
СТИХИ, НАПИСАННЫЕ НА ПОЧТЕ
Здесь две красотки, полным ходом
делясь наличием идей,
стоят за новым переводом
от верных северных мужей.
По телефону-автомату,
как школьник, знающий урок,
кричит заметно глуховатый,
но голосистый старичок.
И совершенно отрешенно
студент с нахмуренным челом
сидит, как Вертер обольщенный,
за длинным письменным столом.
Кругом его галдит и пышет
столпотворение само,
а он, один, страдая, пишет
свое заветное письмо.
Навряд ли лучшему служило,
хотя оно уже старо,
входя в казенные чернила,
перержавелое перо.
То перечеркивает что-то,
то озаряется на миг,
как над контрольною работой
отнюдь не первый ученик.
С той тщательностью, с тем терпеньем
корпит над смыслом слов своих,
как я над тем стихотвореньем,
что мне дороже всех других.
СТИХИ, НАПИСАННЫЕ 1 МАЯ
Пролетарии всех стран,
бейте в красный барабан!
Сил на это не жалейте,
не глядите вкось и врозь -
в обе палки вместе бейте
так, чтоб небо затряслось.
Опускайте громче руку,
извинений не прося,
чтоб от этого от стуку
отворилось все и вся.
Грузчик, каменщик и плотник,
весь народ мастеровой,
выходите на субботник
всенародный, мировой.
Наступает час расплаты
за дубинки и штыки,-
собирайте все лопаты,
все мотыги и кирки.
Работенка вам по силам,
по душе и по уму:
ройте общую могилу
Капиталу самому.
Ройте все единым духом,
дружно плечи веселя -
пусть ему не станет пухом
наша общая земля.
Мы ж недаром изучали
"Манифест" и "Капитал" -
Маркс и Энгельс дело знали,
Ленин дело понимал.
ДОРОГА НА ЯЛТУ
Померк за спиною вагонный пейзаж.
В сиянье лучей золотящих
заправлен автобус,
запрятан багаж
в пыльный багажный ящик.
Пошире теперь раскрывай глаза.
Здесь все для тебя:
от земли до небес.
Справа - почти одни чудеса,
слева - никак не меньше чудес.
Ручьи,
виноградники,
петли дороги,
увитые снегом крутые отроги,
пустынные склоны,
отлогие скаты -
все без исключения,
честное слово!-
частью - до отвращения лилово,
а частью - так себе, лиловато.
За поворотом - другой поворот.
Стоят деревья различных пород.
А мы вот - неутомимо,
сначала под солнцем,
потом в полумгле -
летим по кремнистой крымской земле,
стремнин и строений мимо.
И, как завершенье, внизу, в глубине,
под звездным небом апреля,
по берегу моря -
вечерних огней
рассыпанное ожерелье.
Никак не пойму, хоть велик интерес,
сущность явления:
вроде
звезды на землю сошли с небес,
а может,-
огни в небеса уходят.
Меж дивных красот - оглушенный - качу,
да быстро приелась фантазия:
хочу от искусства, от жизни хочу
побольше разнообразия.
А впрочем - и так хорошо в Крыму:
апрельская ночь в голубом дыму,
гора - в ледяной короне.
Таким величием он велик,
что я бы совсем перед ним поник,
да выручила ирония.
НОЧНОЙ ШТОРМ
Когда пароход начинает качать -
из-за домов, из мрака
выходит на берег поскучать
знакомая мне собака.
Где волны грозятся с земли стереть,
клубится пучина злая,
нечего, кажется, ей стеречь,
не на кого лаять.
Высокий вал,
пространство размерив,
растет,
в полете силу развив,
и вспять уходит, об каменный берег
морду свою разбив.
Уходит вал. Приходит другой,-
сидит собака - ни в зуб ногой.
Все люди ушли, однако
упорно сидит собака.
Закрыты подъезды. Выключен свет.
Лишь поздний пройдет гуляка.
Давно уже время домой.
Ан нет -
все так же сидит собака.
Все так же глядит на ревущий вал.
И я сознаться не трушу,
что в этой собаке предполагал
родственную мне душу.
Так, как ее, с недавней поры,
гудя, рокоча, звеня,
море вытаскивает из конуры
и тащит к себе меня.
Разве я знал, что брызги твои,
что черная эта вода
крепче вина, солоней любви,
сильней моего труда?
Темным-темно,
ревет, грубя.
Я здесь давно.
Я слышу тебя.
Пусть все уйдут,
пробив отбой.
Я здесь. Я тут.
Я рядом с тобой.
Меня одного тут тоска зажала.
Стою один -
ни огней,
ни звезд.
И даже собака, поджавши хвост,
стыдливой трусцою домой сбежала.
Так те, что твой обожают покой,
твое под солнцем мерцанье,
спокойно уедут.
И даже рукой
забудут махнуть на прощанье.
А полюбившие берег седой
и мерное волн рокотанье
водопроводной пресной водой
смоют воспоминанья.
Куда мне умчаться, себя кляня,
как мне о черной забыть волне,
если оно ворвалось в меня,
если клокочет оно во мне?
Волна за волною ревет, крутясь,
а я один - уже столько лет!-
стою, устало облокотясь
на этот каменный парапет.
Будто от тела руку свою,
себя от него оторвать не могу.
Как одержимый стою и стою
на залитом пеною берегу...
Куда ни направлю отсюда шаг,
в какую ни кинет меня полосу -
шум его унесу в ушах
и цвет его в глазах унесу.
ПРЯХА
Раскрашена розовым палка,
дощечка сухая темна.
Стучит деревянная прялка.
Старуха сидит у окна.
Бегут, утончаясь от бега,
в руке осторожно гудя,
за белою ниткою снега
весенняя нитка дождя.
Ей тысяча лет, этой пряхе,
а прядей не видно седых.
Работала при Мономахе,
при правнуках будет твоих.
Ссыпается ей на колени
и стук партизанских колес,
и пепел сожженных селений,
и желтые листья берез.
Прядет она ветер и зори,
и мирные дни и войну,
и волны свободные моря,
и радиостанций волну.
С неженскою гордой любовью
она не устала сучить
и нитку, намокшую кровью,
и красного знамени нить.
Декабрь сменяется маем,
цветы окружают жилье,
идут наши дни, не смолкая,
сквозь темные пальцы ее.
Суровы глаза голубые,
сияние молний в избе.
И ветры огромной России
скорбят и ликуют в трубе.
АЛЕНУШКА
У моей двоюродной
сестрички
твердый шаг
и мягкие косички.
Аккуратно
платьице пошито.
Белым мылом
лапушки помыты.
Под бровями
в солнечном покое
тихо светит
небо голубое.
Нет на нем ни облачка,
ни тучки.
Детский голос.
Маленькие ручки.
И повязан крепко,
для примера,
красный галстук -
галстук пионера.
Мы храним -
Аленушкино братство -
нашей Революции
богатство.
Вот она стоит
под небосводом,
в чистом поле,
в полевом венке -
против вашей
статуи Свободы
с атомным светильником
в руке.
ПЕРВЫЙ БАЛ
Позабыты шахматы и стирка,
брошены вязанье и журнал.
Наша взбудоражена квартирка:
Галя собирается на бал.
В именинной этой атмосфере,
в этой бескорыстной суете
хлопают стремительные двери,
утюги пылают на плите.
В пиджаках и кофтах Москвошвея,
критикуя и хваля наряд,
добрые волшебники и феи
в комнатенке Галиной шумят.
Счетовод районного Совета
и немолодая травести -
все хотят хоть маленькую лепту
в это дело общее внести.
Словно грешник посредине рая,
я с улыбкой смутною стою,
медленно - сквозь шум - припоминая
молодость суровую свою.
Девушки в лицованных жакетках,
юноши с лопатами в руках -
на площадках первой пятилетки
мы и не слыхали о балах.
Разве что под старую трехрядку,
упираясь пальцами в бока,
кто-нибудь на площади вприсядку
в праздники отхватит трепака.
Или, обтянув косоворотку,
в клубе у Кропоткинских ворот
"Яблочко" матросское с охоткой
вузовец на сцене оторвет.
Наши невзыскательные души
были заворожены тогда
музыкой ликующего туша,
маршами ударного труда.
Но, однако, те воспоминанья,
бесконечно дорогие нам,
я ни на какое осмеянье
никому сегодня не отдам.
И в иносказаниях туманных,
старичку брюзгливому под стать,
нынешнюю молодость не стану
в чем-нибудь корить и упрекать.
Собирайся, Галя, поскорее,
над прической меньше хлопочи -
там уже, вытягивая шеи,
первый вальс играют трубачи.
И давно стоят молодцевато
на парадной лестнице большой
с красными повязками ребята
в ожиданье сверстницы одной.
...Вновь под нашей кровлею помалу
жизнь обыкновенная идет:
старые листаются журналы,
пешки продвигаются вперед.
А вдали, как в комсомольской сказке,
за овитым инеем окном
русская девчонка в полумаске
кружится с вьетнамским пареньком.
ПЕСЕНКА
Там, куда проложена
путь-дорога торная,
мирно расположена
фабрика Трехгорная.
Там, как полагается,
новая и вечная
вьется-навивается
нитка бесконечная.
Вслед за этой ниточкой
ходит по-привычному
Рита-Маргариточка,
молодость фабричная.
Руки ее скорые
тем лишь озабочены,
чтоб текла по-спорому
ровная уточина.
Пусть она и модница,
но не привередница.
Русская работница,
дедова наследница.
С нею здесь не носятся,
будто с исключением,
но зато относятся
с добрым уважением.
Быстрая и славная,
словно бы играючи,
ходит полноправная
ловкая хозяечка.
В синеньком халатике,
словно на плакатике.
В красненькой косыночке,
словно на картиночке.
ПОД МОСКВОЙ
Не на пляже и не на "зиме",
не у входа в концертный зал,-
я глазами тебя своими
в тесной кухоньке увидал.
От работы и керосина
закраснелось твое лицо.
Ты стирала с утра для сына
обиходное бельецо.
А за маленьким за оконцем,
белым блеском сводя с ума,
стыла, полная слез и солнца,
раннеутренняя зима.
И как будто твоя сестричка,
за полянками, за леском
быстро двигалась электричка
в упоении трудовом.
Ты возникла в моей вселенной,
в удивленных глазах моих
из светящейся мыльной пены
да из пятнышек золотых.
Обнаженные эти руки,
увлажнившиеся водой,
стали близкими мне до муки
и смущенности молодой.
Если б был я в тот день смелее,
не раздумывал, не гадал -
обнял сразу бы эту шею,
эти пальцы б поцеловал.
Но ушел я тогда смущенно,
только где-то в глуби светясь.
Как мы долго вас ищем, жены,
как мы быстро теряем вас.
А на улице, в самом деле,
от крылечка наискосок
снеговые стояли ели,
подмосковный скрипел снежок.
И хранили в тиши березы
льдинки светлые на ветвях,
как скупые мужские слезы,
не утертые второпях.
MAMA
Добра моя мать. Добра, сердечна.
Приди к ней - увенчанный и увечный -
делиться удачей, печаль скрывать -
чайник согреет, обед поставит,
выслушает, ночевать оставит:
сама - на сундук, а гостям - кровать.
Старенькая. Ведь видала виды,
знала обманы, хулу, обиды.
Но не пошло ей ученье впрок.
Окна погасли. Фонарь погашен.
Только до позднего в комнате нашей
теплится радостный огонек.
Это она над письмом склонилась.
Не позабыла, не поленилась -
пишет ответы во все края:
кого - пожалеет, кого - поздравит,
кого - подбодрит, а кого - поправит.
Совесть людская. Мама моя.
Долго сидит она над тетрадкой,
отодвигая седую прядку
(дельная - рано ей на покой),
глаз утомленных не закрывая,
ближних и дальних обогревая
своею лучистою добротой.
Всех бы приветила, всех сдружила,
всех бы знакомых переженила.
Всех бы людей за столом собрать,
а самой оказаться - как будто!- лишней,
сесть в уголок и оттуда неслышно
за шумным праздником наблюдать.
Мне бы с тобою все время ладить,
все бы морщины твои разгладить.
Может, затем и стихи пишу,
что, сознавая мужскую силу,
так, как у сердца меня носила,
в сердце своем я тебя ношу.
1938
ДАВНЫМ-ДАВНО
Давным-давно, еще до появленья,
я знал тебя, любил тебя и ждал.
Я выдумал тебя, мое стремленье,
моя печаль, мой верный идеал.
И ты пришла, заслышав ожиданье,
узнав, что я заранее влюблен,
как детские идут воспоминанья
из глубины покинутых времен.
Уверясь в том, что это образ мой,
что создан он мучительной тоскою,
я любовался вовсе не тобою,
а вымысла бездушною игрой.
Благодарю за смелое ученье,
за весь твой смысл, за все -
за то, что ты
была не только рабским воплощеньем,
не только точной копией мечты:
исполнена таких духовных сил,
так далека от всякого притворства,
как наглый блеск созвездий бутафорских
далек от жизни истинных светил;
настолько чистой и такой сердечной,
что я теперь стою перед тобой,
навеки покоренный человечной,
стремительной и нежной красотой.
Пускай меня мечтатель не осудит:
я радуюсь сегодня за двоих
тому, что жизнь всегда была и будет
намного выше вымыслов моих.
ЗИМНЯЯ НОЧЬ
Татьяне
Не надо роскошных нарядов,
в каких щеголять на балах,-
пусть зимний снежок Ленинграда
тебя одевает впотьмах.
Я радуюсь вовсе недаром
усталой улыбке твоей,
когда по ночным тротуарам
идем мы из поздних гостей,
И, падая с темного неба,
в тишайших державных ночах
кристальные звездочки снега
блестят у тебя на плечах.
Я ночью спокойней и строже,
и радостно мне потому,
что ты в этих блестках похожа
на русскую зиму-зиму.
Как будто по стежке-дорожке,
идем по проспекту домой.
Тебе бы еще бы сапожки
да белый платок пуховой.
Я, словно родную науку,
себе осторожно твержу,
что я твою белую руку
покорно и властно держу...
Когда открываются рынки,
у запертых на ночь дверей
с тебя я снимаю снежинки,
как Пушкин снимал соболей.
СТАРАЯ КВАРТИРА
Как знакома мне старая эта квартира!
Полумрак коридора, как прежде, слепит,
как всегда, повторяя движение мира,
на пустом подоконнике глобус скрипит.
Та же сырость в углу. Так же тянет от окон.
Так же папа газету сейчас развернет.
И по радио голос певицы далекой
ту же русскую песню спокойно поет.
Только нету того, что единственно надо,
что, казалось, навеки связало двоих:
одного твоего утомленного взгляда,
невеселых, рассеянных реплик твоих.
Нету прежних заминок, неловкости прежней,
ощущенья, что сердце летит под откос,
нету только твоих, нарочито небрежно
перехваченных ленточкой светлых волос.
Я не буду, как в прежние годы, метаться,
возле окон чужих до рассвета ходить;
мне бы только в берлоге своей отлежаться,
только имя твое навсегда позабыть.
Но и в полночь я жду твоего появленья,
но и ночью, на острых своих каблуках,
ты бесшумно проходишь, мое сновиденье,
по колени в неведомых желтых цветах.
Мне туда бы податься из маленьких комнат,
где целителен воздух в просторах полей,
где никто мне о жизни твоей не напомнит
и ничто не напомнит о жизни твоей.
Я иду по осенней дороге, прохожий.
Дует ветер, глухую печаль шевеля.
И на памятный глобус до боли похожа
вся летящая в тучах родная земля.
КРЫМСКИЕ КРАСКИ
Красочна крымская красота.
В мире палитры богаче нету.
Такие встречаются здесь цвета,
что и названья не знаешь цвету.
Тихо скатясь с горы крутой,
день проплывет, освещая кущи:
красный,
оранжевый,
золотой,
синенький,
синеватый,
синющий.
У городских простояв крылец,
скроется вновь за грядою горной:
темнеющий,
темный,
и под конец -
абсолютно черный.
Но, в окруженье тюльпанов да роз,
я не покрылся забвенья ряской:
светлую дымку твоих волос
Крым никакой не закрасит краской.
Ночью - во сне, а днем - наяву,
вдруг расшумевшись и вдруг затихая,
тебя вспоминаю, тебя зову,
тебе пишу, о тебе вздыхаю.
Средь этаких круч я стал смелей,
я шире стал на таком просторе.
У ног моих
цвета любви моей -
плещет, ревет, замирает море.
* * *
Ты все молодишься. Все хочешь
забыть, что к закату идешь:
где надо смеяться - хохочешь,
где можно заплакать - поешь.
Ты все еще жаждешь обманом
себе и другим доказать,
что юности легким туманом
ничуть не устала дышать.
Найдешь ли свое избавленье,
уйдешь ли от боли своей
в давно надоевшем круженье,
в свечении праздных огней?
Ты мечешься, душу скрывая
и горькие мысли тая,
но я-то доподлинно знаю,
в чем кроется сущность твоя.
Но я-то отчетливо вижу,
что смысл недомолвок твоих
куда человечней и ближе
актерских повадок пустых.
Но я-то давно вдохновеньем
считать без упрека готов
морщинки твои - дуновенье
сошедших со сцены годов.
Пора уже маску позерства
на честную позу сменить.
Затем, что довольно притворства
и правдою, трудной и черствой,
У нас полагается жить.
Глаза, устремленные жадно.
Часов механический бой.
То время шумит беспощадно
над бедной твоей головой.
КАТЮША
Прощайте, милая Катюша.
Мне грустно, если между дел
я вашу радостную душу
рукой нечаянно задел.
Ужасна легкая победа.
Нет, право, лучше скучным быть,
чем остряком и сердцеедом
и обольстителем прослыть.
Я сам учился в этой школе.
Сам курсы девичьи прошел:
"Я к вам пишу - чего же боле?.."
"Не отпирайтесь. Я прочел..."
И мне в скитаньях и походах
пришлось лукавить и хитрить
и мне случалось мимоходом
случайных девочек любить.
Но как он страшен, посвист старый,
как от мечтаний далека
ухмылка наглая гусара,
гусара наглая рука.
Как беспощадно пробужденье,
когда она молчит,
когда,
ломая пальчики,
в смятенье,
бежит - неведомо куда:
к опушке, в тонкие березы,
в овраг - без голоса рыдать.
Не просто было эти слезы
дешевым пивом запивать.
Их и сейчас еще немало,
хотя и близок их конец,
мужчин красивых и бывалых,
хозяев маленьких сердец.
У них уже вошло в привычку
влюбляться в женщину шутя:
под стук колес,
под вспышку спички,
под шум осеннего дождя.
Они идут, вздыхая гадко,
походкой любящих отцов.
Бегите, Катя, без оглядки
от этих дивных подлецов.
Прощайте, милая Катюша.
Благодарю вас за привет,
за музыку, что я не слушал,
за то, что вам семнадцать лет;
за то, что город ваш просторный,
в котором я в апреле жил,
перед отъездом, на платформе,
я, как мальчишка, полюбил.
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Валентиной
Климовичи дочку назвали.
Это имя мне дорого -
символ любви.
Валентина Аркадьевна.
Валенька.
Валя.
Как поют,
как сияют
твои соловьи!
Три весны
прошумели над нами,
как птицы,
три зимы
намели-накрутили снегов.
Не забыта она
и не может забыться:
все мне видится,
помнится,
слышится,
снится,
все зовет,
все ведет,
все тоскует - любовь.
Если б эту тоску
я отдал океану -
он бы волны катал,
глубиною гудел,
он стонал бы и мучился
как окаянный,
а к утру,
что усталый старик,
поседел.
Если б с лесом,
шумящим в полдневном веселье,
я бы смог поделиться
печалью своей -
корни б сжались, как пальцы,
стволы заскрипели,
и осыпались
черные листья с ветвей.
Если б звонкую силу,
что даже поныне
мне любовь
вдохновенно и щедро дает,
я занес бы
в бесплодную сушу пустыни
или вынес
на мертвенный царственный лед
расцвели бы деревья,
светясь на просторе,
и во имя моей,
Валентина,
любви
рокотало бы
теплое синее море,
пели в рощах вечерних
одни соловьи.
Как ты можешь теперь
оставаться спокойной,
между делом смеяться,
притворно зевать
и в ответ
на мучительный выкрик,
достойно
опуская большие ресницы,
скучать?
Как ты можешь казаться
чужой,
равнодушной?
Неужели
забавою было твоей
все, что жгло мое сердце,
коверкало душу,
все, что стало
счастливою мукой моей?
Как-никак -
а тебя развенчать не посмею.
Что ни что -
а тебя позабыть не смогу.
Я себя не жалел,
а тебя пожалею.
Я себя не сберег,
а тебя сберегу.
ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ
Верь мне, дорогая моя.
Я эти слова говорю с трудом,
но они пройдут по всем городам
и войдут, как странники, в каждый дом.
Я вырвался наконец из угла
и всем хочу рассказать про это:
ни звезд, ни гудков -
за окном легла
майская ночь накануне рассвета.
Столько в ней силы и чистоты,
так бьют в лицо предрассветные стрелы
будто мы вместе одни, будто ты
прямо в сердце мое посмотрела.
Отсюда, с высот пяти этажей,
с вершины любви, где сердце тонет,
весь мир - без крови, без рубежей -
мне виден, как на моей ладони.
Гор - не измерить и рек - не счесть,
и все в моей человечьей власти.
Наверное, это как раз и есть,
что называется - полное счастье.
Вот гляди: я поднялся, стал,
подошел к столу - и, как ни странно,
этот старенький письменный стол
заиграл звучнее органа.
Вот я руку сейчас подниму
(мне это не трудно - так, пустяки)-
и один за другим, по одному
на деревьях распустятся лепестки.
Только слово скажу одно,
и, заслышав его, издалека,
бесшумно, за звеном звено,
на землю опустятся облака.
И мы тогда с тобою вдвоем,
полны ощущенья чистейшего света,
за руки взявшись, меж них пройдем,
будто две странствующие кометы.
Двадцать семь лет неудач - пустяки,
если мир - в честь любви - украсили флаги,
и я, побледнев, пишу стихи
о тебе
на листьях нотной бумаги.
* * *
Я напишу тебе стихи такие,
каких еще не слышала Россия.
Такие я тебе открою дали,
каких и марсиане не видали,
Сойду под землю и взойду на кручи,
открою волны и отмерю тучи,
Как мудрый бог, парящий надо всеми,
отдам пространство и отчислю время.
Я положу в твои родные руки
все сказки мира, все его науки.
Отдам тебе свои воспоминанья,
свой легкий вздох и трудное молчанье.
Я награжу тебя, моя отрада,
бессмертным словом и предсмертным взглядом,
И все за то, что утром у вокзала
ты так легко меня поцеловала.
МАЙСКИЙ ВЕЧЕР
Солнечный свет. Перекличка птичья.
Черемуха - вот она, невдалеке.
Сирень у дороги. Сирень в петличке.
Ветки сирени в твоей руке.
Чего ж, сероглазая, ты смеешься?
Неужто опять над любовью моей?
То глянешь украдкой. То отвернешься.
То щуришься из-под широких бровей.
И кажется: вот еще два мгновенья,
и я в этой нежности растворюсь,-
стану закатом или сиренью,
а может, и в облако превращусь.
Но только, наверное, будет скушно
не строить, не радоваться, не любить -
расти на поляне иль равнодушно,
меняя свои очертания, плыть.
Не лучше ль под нашими небесами
жить и работать для счастья людей,
строить дворцы, управлять облаками,
стать командиром грозы и дождей?
Не веселее ли, в самом деле,
взрастить возле северных городов
такие сады, чтобы птицы пели
на тонких ветвях про нашу любовь?
Чтоб люди, устав от железа и пыли,
с букетами, с венчиками в глазах,
как пьяные между кустов ходили
и спали на полевых цветах.
ДОЧЬ НАЧАЛЬНИКА ШАХТЫ
Дочь начальника шахты
в коричневом теплом платке -
на санях невесомых,
и вожжи в широкой руке.
А глаза у нее -
верьте мне - золоты и черны,
словно черное золото,
уголь Советской страны.
Я бы эти глаза
до тех пор бы хотел целовать,
чтобы золоту - черным
и черному - золотом стать.
На щеке ее родинка -
знак подмосковной весны,
словно пятнышко Родины,
будто отметка страны.
Поглядела и скрылась,
побыла полминуты - и нет.
Только снег заметает
полозьев струящийся след.
Только я одиноко
в снегу по колено стою,
увидав свою радость,
утративши радость свою.
МОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Нам время не даром дается.
Мы трудно и гордо живем.
И слово трудом достается,
и слава добыта трудом.
Своей безусловною властью,
от имени сверстников всех,
я проклял дешевое счастье
и легкий развеял успех.
Я строил окопы и доты,
железо и камень тесал,
и сам я от этой работы
железным и каменным стал.
Меня - понимаете сами -
чернильным пером не убить,
двумя не прикончить штыками
и в три топора не свалить.
Я стал не большим, а огромным
попробуй тягаться со мной!
Как Башни Терпения, домны
стоят за моею спиной.
Я стал не большим, а великим,
раздумье лежит на челе,
как утром небесные блики
на выпуклой голой земле.
Я начал - векам в назиданье -
на поле вчерашней войны
торжественный день созиданья,
строительный праздник страны.
1946
ЛЮБКА
Посредине лета
высыхают губы.
Отойдем в сторонку,
сядем на диван.
Вспомним, погорюем,
сядем, моя Люба,
Сядем посмеемся,
Любка Фейгельман!
Гражданин Вертинский
вертится. Спокойно
девочки танцуют
английский фокстрот.
Я не понимаю,
что это такое,
как это такое
за сердце берет?
Я хочу смеяться
над его искусством,
я могу заплакать
над его тоской.
Ты мне не расскажешь,
отчего нам грустно,
почему нам, Любка,
весело с тобой?
Только мне обидно
за своих поэтов.
Я своих поэтов
знаю наизусть.
Как же это вышло,
что июньским летом
слушают ребята
импортную грусть?
Вспомним, дорогая,
осень или зиму,
синие вагоны,
ветер в сентябре,
как мы целовались,
проезжая мимо,
что мы говорили
на твоем дворе.
Затоскуем, вспомним
пушкинские травы,
дачную платформу,
пятизвездный лед,
как мы целовались
у твоей заставы,
рядом с телеграфом
около ворот.
Как я от райкома
ехал к лесорубам.
И на третьей полке,
занавесив свет:
"Здравствуй, моя Любка",
"До свиданья, Люба!"-
подпевал ночами
пасмурный сосед.
И в кафе на Трубной
золотые трубы,-
только мы входили,-
обращались к нам:
"Здравствуйте,
пожалуйста,
заходите, Люба!
Оставайтесь с нами,
Любка Фейгельман!"
Или ты забыла
кресло бельэтажа,
оперу "Русалка",
пьесу "Ревизор",
гладкие дорожки
сада "Эрмитажа",
долгий несерьезный
тихий разговор?
Ночи до рассвета,
до моих трамваев?
Что это случилось?
Как это поймешь?
Почему сегодня
ты стоишь другая?
Почему с другими
ходишь и поешь?
Мне передавали,
что ты загуляла -
лаковые туфли,
брошка, перманент.
Что с тобой гуляет
розовый, бывалый,
двадцатитрехлетний
транспортный студент.
Я еще не видел,
чтоб ты так ходила -
в кенгуровой шляпе,
в кофте голубой.
Чтоб ты провалилась,
если всё забыла,
если ты смеешься
нынче надо мной!
Вспомни, как с тобою
выбрали обои,
меховую шубу,
кожаный диван.
До свиданья, Люба!
До свиданья, что ли?
Всё ты потопила,
Любка Фейгельман.
Я уеду лучше,
поступлю учиться,
выправлю костюмы,
буду кофий пить.
На другой девчонке
я могу жениться,
только ту девчонку
так мне не любить.
Только с той девчонкой
я не буду прежним.
Отошли вагоны,
отцвела трава.
Что ж ты обманула
все мои надежды,
что ж ты осмеяла
лучшие слова?
Стираная юбка,
глаженая юбка,
шелковая юбка
нас ввела в обман.
До свиданья, Любка,
до свиданья, Любка!
Слышишь?
До свиданья,
Любка Фейгельман!
<1934>
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Вечерело. Пахло огурцами.
Светлый пар до неба подымался,
как дымок от новой папиросы,
как твои забытые глаза.
И, обрызганный огнем заката,
пожилой и вежливый художник,
вдохновляясь, путаясь, немея,
на холсте закат изображал.
Он хватал зеленое пространство
и вооруженною рукою
укрощал. И заставлял спокойно
умирать на плоскости холста.
(Ты ловила бабочек. В коробке
их пронзали тонкие булавки.
Бабочки дрожали.
Им хотелось
так же, как закату,
улететь.)
Но художник понимал, как надо
обращаться с хаосом природы.
И, уменьшенный в своих масштабах,
шел закат по плоскости холста.
Только птицы на холсте висели,
потеряв инерцию движенья.
Только запах масла и бензина
заменял все запахи земли.
И бродил по первому пейзажу
(а художник ничего не видел),
палочкой ореховой играя,
молодой веселый человек.
После дня работы в нефтелавке
и тяжелой хватки керосина
он ходил и освещался солнцем,
сам не понимая для чего.
Он любил и понимал работу.
(По утрам, спецовку надевая,
мы летим.
И, будто на свиданье,
нам немножко страшно опоздать.)
И за это теплое уменье
он четыре раза премирован,
и фамилия его простая
на Доске почета.
И весной
он бродил по свежему пейзажу,
палочкой ореховой играя,
и увидел, как седой художник
в запахах весны не понимал.
И тогда хозяйскою походкой
он вмешался в тонкое общенье
старых кадров с новою природой
и сказал прекрасные слова:
"Гражданин!
Я вовсе не согласен
с вашим толкованием пейзажа.
Я работаю. И я обязан
против этого протестовать.
Вы увидели зеленый кустик,
вы увидели кусок водички,
кувырканье птичек на просторе,
голубой летающий дымок...
И, седые брови опустивши,
вы не увидали человека,
вы забыли о перспективе
и о том, что новая страна
изменяет тихие пейзажи,
заседает в комнатах Госплана,
осушает чахлые болота
и готовит к севу семена.
Если посмотреть вперед, то видно,
как проходит здесь мелиоратор,
как ночами люди вырубают
дерево и как корчуют пни.
Если посмотреть вперед, то видно,
как по насыпи проходит поезд,
раздувая легкие.
И песни
молодые грузчики поют.
Если посмотреть вперед, то видно,
как мучительно меняет шкуру,
как становится необходимым
вышеупомянутый пейзаж.
Через два или четыре года
вы увидите всё это сами,
и картина ваша запылится
и завянет на чужой стене.
От стакана чая оторвавшись,
вовсе безразличными глазами
на нее посмотрит безразлично
пожилой случайный человек.
Что она ему сказать сумеет
про года, про весны пятилетки,
про необычайную работу,
про мою веселую страну?"
И стоял покинутый художник,
ничего почти не понимая.
И закат, уменьшенный в размерах,
проходил по линии холста.
Я хочу, чтобы в моей работе
сочеталась бы горячка парня
с мастерством художника, который
все-таки умеет рисовать.
1932
ПЕТР И АЛЕКСЕЙ
Петр, Петр, свершились сроки.
Небо зимнее в полумгле.
Неподвижно бледнеют щеки,
и рука лежит на столе -
та, что миловала и карала,
управляла Россией всей,
плечи женские обнимала
и осаживала коней.
День - в чертогах, а год - в дорогах,
по-мужицкому широка,
в поцелуях, в слезах, в ожогах
императорская рука.
Слова вымолвить не умея,
ужасаясь судьбе своей,
скорбно вытянувшись, пред нею
замер слабостный Алексей.
Знает он, молодой наследник,
но не может поднять свой взгляд:
этот день для него последний -
не помилуют, не простят.
Он не слушает и не видит,
сжав безвольно свой узкий рот.
До отчаянья ненавидит
все, чем ныне страна живет.
Не зазубренными мечами,
не под ядрами батарей -
утоляет себя свечами,
любит благовест и елей.
Тайным мыслям подвержен слишком,
тих и косен до дурноты.
"На кого ты пошел, мальчишка,
с кем тягаться задумал ты?
Не начетчики и кликуши,
подвывающие в ночи,-
молодые нужны мне души,
бомбардиры и трубачи.
Это все-таки в нем до муки,
через чресла моей жены,
и усмешка моя, и руки
неумело повторены.
Но, до боли души тоскуя,
отправляя тебя в тюрьму,
по-отцовски не поцелую,
на прощанье не обниму.
Рот твой слабый и лоб твой белый
надо будет скорей забыть.
Ох, нелегкое это дело -
самодержцем российским быть!.."
Солнце утренним светит светом,
чистый снег серебрит окно.
Молча сделано дело это,
все заранее решено...
Зимним вечером возвращаясь
по дымящимся мостовым,
уважительно я склоняюсь
перед памятником твоим.
Молча скачет державный гений
по земле - из конца в конец.
Тусклый венчик его мучений,
императорский твой венец.
1945-1949
ПИСЬМО ДОМОЙ
Твое письмо пришло без опозданья,
и тотчас - не во сне, а наяву -
как младший лейтенант на спецзаданье,
я бросил все и прилетел в Москву.
А за столом, как было в даты эти
у нас давным-давно заведено,
уже сидели женщины и дети,
искрился чай, и булькало вино.
Уже шелка слегка примяли дамы,
не соблюдали девочки манер,
и свой бокал по-строевому прямо
устал держать заезжий офицер.
Дым папирос под люстрою клубился,
сияли счастьем личики невест.
Вот тут-то я как раз и появился,
Как некий ангел отдаленных мест.
В казенной шапке, в лагерном бушлате,
полученном в интинской стороне,
без пуговиц, но с черною печатью,
поставленной чекистом на спине.
Так я предстал пред вами, осужденным
на вечный труд неправедным судом,
с лицом по-старчески изнеможденным,
с потухшим взглядом и умолкшим ртом.
Моя тоска твоих гостей смутила.
Смолк разговор, угас застольный пыл...
Но, боже мой, ведь ты сама просила,
чтоб в этот день я вместе с вами был!
1953, Инта, лагерь
ШИНЕЛЬ
Когда метет за окнами метель,
сияньем снега озаряя мир,
мне в камеру бросает конвоир
солдатскую ушанку и шинель.
Давным-давно, одна на коридор,
в часы прогулок служит всем она:
ее носили кража и террор,
таскали генералы и шпана.
Она до блеска вытерта,
притом
стараниям портного вопреки
ее карман заделан мертвым швом,
железные отрезаны крючки.
Но я ее хватаю на лету,
в глазах моих от радости темно.
Еще хранит казенное сукно
недавнюю людскую теплоту.
Безвестный узник, сын моей земли,
как дух сомненья ты вошел сюда,
и мысли заключенные прожгли
прокладку шапки этой навсегда.
Пусть сталинский конвой невдалеке
стоит у наших замкнутых дверей.
Рука моя лежит в твоей руке,
и мысль моя беседует с твоей.
С тобой вдвоем мы вынесем тюрьму,
вдвоем мы станем кандалы таскать,
и если царство вверят одному,
другой придет его поцеловать.
Вдвоем мы не боимся ничего,
вдвоем мы сможем мир завоевать,
и если будут вешать одного,
другой придет его поцеловать.
Как ум мятущийся,
ум беспокойный мой,
как душу непреклонную мою,
сидящему за каменной стеной
шинель и шапку я передаю.
1953, Инта, лагерь
ЖИДОВКА
Прокламация и забастовка,
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала жидовка
Комиссаркой гражданской войны.
Ни стирать, ни рожать не умела,
Никакая не мать, не жена -
Лишь одной революции дело
Понимала и знала она.
Брызжет кляксы чекистская ручка,
Светит месяц в морозном окне,
И молчит огнестрельная штучка
На оттянутом сбоку ремне.
Неопрятна, как истинный гений,
И бледна, как пророк взаперти,-
Никому никаких снисхождений
Никогда у нее не найти.
Только мысли, подобные стали,
Пронизали ее житие.
Все враги перед ней трепетали,
И свои опасались ее.
Но по-своему движутся годы,
Возникают базар и уют,
И тебе настоящего хода
Ни вверху, ни внизу не дают.
Время все-таки вносит поправки,
И тебя еще в тот наркомат
Из негласной почетной отставки
С уважением вдруг пригласят.
В неподкупном своем кабинете,
В неприкаянной келье своей,
Простодушно, как малые дети,
Ты допрашивать станешь людей.
И начальники нового духа,
Веселясь и по-свойски грубя,
Безнадежно отсталой старухой
Сообща посчитают тебя.
Все мы стоим того, что мы стоим,
Будет сделан по-скорому суд -
И тебя самое под конвоем
По советской земле повезут.
Не увидишь и малой поблажки,
Одинаков тот самый режим:
Проститутки, торговки, монашки
Окружением будут твоим.
Никому не сдаваясь, однако
(Ни письма, ни посылочки нет!),
В полутемных дощатых бараках
Проживешь ты четырнадцать лет.
И старухе, совсем остролицей,
Сохранившей безжалостный взгляд,
В подобревшее лоно столицы
Напоследок вернуться велят.
В том районе, просторном и новом,
Получив как писатель жилье,
В отделении нашем почтовом
Я стою за спиною ее.
И слежу, удивляясь не слишком -
Впечатленьями жизнь не бедна,-
Как свою пенсионную книжку
Сквозь окошко толкает она.
Февраль 1963, Переделкино
ЗЕМЛЯКИ
Когда встречаются этапы
Вдоль по дороге снеговой,
Овчарки рвутся с жарким храпом
И злее бегает конвой.
Мы прямо лезем, словно танки,
Неотвратимо, будто рок.
На нас - бушлаты и ушанки,
Уже прошедшие свой срок.
И на ходу колонне встречной,
Идущей в свой тюремный дом,
Один вопрос, тот самый, вечный,
Сорвавши голос, задаем.
Он прозвучал нестройным гулом
В краю морозной синевы:
"Кто из Смоленска?
Кто из Тулы?
Кто из Орла?
Кто из Москвы?"
И слышим выкрик деревенский,
И ловим отклик городской,
Что есть и тульский, и смоленский,
Есть из поселка под Москвой.
Ах, вроде счастья выше нету -
Сквозь индевелые штыки
Услышать хриплые ответы,
Что есть и будут земляки.
Шагай, этап, быстрее,
шибко,
забыв о собственном конце,
с полублаженною улыбкой
На успокоенном лице.
Ноябрь 1964, Переделкино
ГОЛУБОЙ ДУНАЙ
После бани в день субботний,
отдавая честь вину,
я хожу всего охотней
в забегаловку одну.
Там, степенно выпивая,
Я стою наверняка.
В голубом дыму "Дуная"
все колеблется слегка.
Появляются подружки
в окружении ребят.
Все стучат сильнее кружки,
колокольчики звенят,
словно в небо позывные,
с каждой стопкой все слышней,
колокольчики России
из степей и от саней.
Ни промашки, ни поблажки,
чтобы не было беды,
над столом тоскует Машка
из рабочей слободы.
Пусть милиция узнает,
ей давно узнать пора:
Машка сызнова гуляет
чуть не с самого утра.
Не бедна и не богата -
четвертинка в самый раз -
заработала лопатой
у писателя сейчас.
Завтра утречком стирает
для соседки бельецо
и с похмелья напевает,
что потеряно кольцо.
И того не знает, дура,
полоскаючи белье,
что в России диктатура
не чужая, а ее!
20 февраля 1966, Переделкино
МЕНШИКОВ
Под утро мирно спит столица,
сыта от снеди и вина.
И дочь твоя в императрицы
уже почти проведена.
А впереди - балы и войны,
курьеры, девки, атташе.
Но отчего-то беспокойно,
тоскливо как-то на душе.
Но вроде саднит, а не греет,
Хрустя, голландское белье.
Полузаметно, но редеет
всё окружение твое.
Еще ты вроде в прежней силе,
полудержавен и хорош.
Тебя, однако, подрубили,
ты скоро, скоро упадешь.
Ты упадешь, сосна прямая,
средь синевы и мерзлоты,
своим паденьем пригибая
березки, елочки, кусты.
Куда девалась та отвага,
тот всероссийский политес,
когда ты с тоненькою шпагой
на ядра вражеские лез?
Живая вырыта могила
за долгий месяц от столиц.
И веет холодом и силой
от молодых державных лиц.
Всё ниже и темнее тучи,
всё больше пыли на коврах.
И дочь твою мордастый кучер
угрюмо тискает в сенях.
1966
СЛЕПЕЦ
Идет слепец по коридору,
тая секрет какой-то свой,
как шел тогда, в иную пору,
армейским посланный дозором,
по территории чужой.
Зияют смутные глазницы
лица военного того.
Как лунной ночью у волчицы,
туда, где лампочка теснится,
лицо протянуто его.
Он слышит ночь, как мать - ребенка,
хоть миновал военный срок
и хоть дежурная сестренка,
охально зыркая в сторонку,
его ведет под локоток.
Идет слепец с лицом радара,
беззвучно, так же как живет,
как будто нового удара
из темноты все время ждет.
1967
ПОСЛАНИЕ ПАВЛОВСКОМУ
В какой обители московской,
в довольстве сытом иль нужде
сейчас живешь ты, мой Павловский,
мой крестный из НКВД?
Ты вспомнишь ли мой вздох короткий,
мой юный жар и юный пыл,
когда меня крестом решетки
ты на Лубянке окрестил?
И помнишь ли, как птицы пели,
как день апрельский ликовал,
когда меня в своей купели
ты хладнокровно искупал?
Не вспоминается ли дома,
когда смежаешь ты глаза,
как комсомольцу молодому
влепил бубнового туза?
Не от безделья, не от скуки
хочу поведать не спеша,
что у меня остались руки
и та же детская душа.
И что, пройдя сквозь эти сроки,
еще не слабнет голос мой,
не меркнет ум, уже жестокий,
не уничтоженный тобой.
Как хорошо бы на покое,-
твою некстати вспомнив мать,-
за чашкой чая нам с тобою
о прожитом потолковать.
Я унижаться не умею
и глаз от глаз не отведу,
зайди по-дружески, скорее.
Зайди.
А то я сам приду.
1967
ТРИ ВИТЯЗЯ
Мы шли втроем с рогатиной на слово
и вместе слезли с тройки удалой -
три мальчика,
три козыря бубновых,
три витязя бильярдной и пивной.
Был первый точно беркут на рассвете,
летящий за трепещущей лисой.
Второй был неожиданным,
а третий - угрюмый, бледнолицый и худой.
Я был тогда сутулым и угрюмым,
хоть мне в игре
пока еще - везло,
уже тогда предчувствия и думы
избороздили юное чело.
А был вторым поэт Борис Корнилов,-
я и в стихах и в прозе написал,
что он тогда у общего кормила,
недвижно скособочившись, стоял.
А первым был поэт Васильев Пашка,
златоволосый хищник ножевой -
не маргариткой
вышита рубашка,
а крестиком - почти за упокой.
Мы вместе жили, словно бы артельно.
но вроде бы, пожалуй что,
не так -
стихи писали разно и отдельно,
а гонорар несли в один кабак.
По младости или с похмелья -
сдуру,
блюдя все время заповедный срок,
в российскую свою литературу
мы принесли достаточный оброк.
У входа в зал,
на выходе из зала,
метельной ночью, утренней весной,
над нами тень Багрицкого витала
и шелестел Есенин за спиной.
...Второй наш друг,
еще не ставши старым,
морозной ночью арестован был
и на дощатых занарымских нарах
смежил глаза и в бозе опочил.
На ранней зорьке пулею туземной
расстрелян был казачества певец,
и покатился вдоль стены тюремной
его златой надтреснутый венец.
А я вернулся в зимнюю столицу
и стал теперь в президиумы вхож.
Такой же злой, такой же остролицый,
но спрятавший
для обороны - нож.
Вот так втроем мы отслужили слову
и искупили хоть бы часть греха -
три мальчика,
три козыря бубновых,
три витязя российского стиха.
21 декабря 1967, Переделкино
ЭТАЖЕРКА
Я нынче проснулся с охотой,
веселый и добрый с утра:
наверно, прелестное что-то
случилось со мною вчера.
И то и другое прикинув,
я вспомнил весь день прожитой:
девчушка из недр магазина
несла этажерку домой.
Все было не просто, однако,
ведь та этажерка была
покрыта сияющим лаком,
блистательным, как зеркала.
И в ней, задержавшись на малость,
от внешнего люда тесна,
и улица - вся - отражалась,
и вся повторялась весна.
Мне скажет какой-нибудь критик
на эти восторги в ответ:
"Подумаешь, тоже событье
нашел для потомства поэт!"
А как же! Конечно, событье.
О многом подумаешь тут,
когда в суету общежитья
свою этажерку несут.
А это уж наша забота -
такими поэтами быть,
чтоб нынче по высшему счету
стихи для нее сочинить.
Чтоб наши неглупые книжки,
когда их случится издать,
могли бы, пускай не в излишке,
на той этажерке стоять.
СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Я был, понятно, счастлив тоже,
когда влюблялся и любил
или у шумной молодежи
свое признанье находил.
Ты, счастье, мне еще являлось,
когда не сразу, неспроста
перед мальчишкой открывалась
лесов и пашен красота.
Я также счастлив был довольно
не каждый день, но каждый год,
когда на празднествах застольных,
как колокол на колокольне,
гудел торжественно народ.
Но это только лишь вступленье,
вернее, присказка одна.
Вот был ли счастлив в жизни Ленин,
без оговорок и сполна?
Конечно, был.
И не отчасти,
а грозной волей главаря,
когда вокруг кипело счастье
штыков и флагов Октября.
Да, был, хотя и без идиллий,
когда опять, примкнув штыки,
на фронт без песен уходили
Москвы и Питера полки.
Он счастлив был, смеясь по-детски,
когда, знамена пронося,
впервые праздник свой советский
Россия праздновала вся.
Он, кстати, счастлив был и дома,
в лесу, когда еще темно...
Но это счастье всем знакомо,
а то - не каждому дано.
ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ СНИМОК
На свете снимка лучше нету,
чем тот, что вечером и днем
и от заката до рассвета
стоит на столике моем.
Отображен на снимке этом,
как бы случайно, второпях,
Ильич с сегодняшней газетой
в своих отчетливых руках.
Мне, сыну нынешней России,
дороже славы проходной
те две чернильницы большие
и календарь перекидной.
Мы рано без того остались
(хоть не в сиротстве, не одни),
кем мира целого листались
и перекладывались дни.
Всю сложность судеб человечьих
он сам зимой, в январский час,
переложил на наши плечи,
на души каждого из нас.
Ведь все же будет вся планета
кружиться вместе и одна
в блистанье утреннего света,
идущем, как на снимке этом,
из заснеженного окна.
МОЙ УЧИТЕЛЬ
Был учитель высоким и тонким,
с ястребиной сухой головой;
жил один, как король, в комнатенке
на втором этаже под Москвой.
Никаким педантизмом не связан,
беззаветный его ученик,
я ему и народу обязан
тем, что все-таки знаю язык.
К пониманью еще не готовый,
слушал я, как открытье само,
слово Пимена и Годунова,
и смятенной Татьяны письмо.
Под цветением школьных акаций,
как в подсумок, я брал сгоряча
динамитный язык прокламаций,
непреложную речь Ильича.
Он вошел в мои книжки неплохо.
Он шумит посильней, чем ковыль,
тот, что ты создавала, эпоха,-
большевистского времени стиль.
Лишь сейчас, сам уж вроде бы старый,
я узнал из архива страны,
что учитель мой был комиссаром
отгремевшей гражданской войны.
И ничуть не стесняюсь гордиться,
что на карточке давней в Москве
комиссарские вижу петлицы
и звезду на прямом рукаве.
БАЛЛАДА ВОЛХОВСТРОЯ
Сюда с мандатом из Москвы
приехали без проездных
в казенных кожанках волхвы
и в гимнастерках фронтовых.
А в сундучках у них лежат
пять топоров и пять лопат.
Тут без угара угоришь
и всласть напаришься без дров.
Пять топоров без топорищ
и пять лопат без черенков.
Но в эти годы сущий клад
пять топоров и пять лопат.
Так утверждался новый рай,
а начинался он с того,
что люди ставили сарай
для инструмента своего.
И в нем работники хранят
пять топоров и пять лопат.
Когда Ильич в больших снегах -
ушел туда, где света нет,
и свет померк в его очах -
отсюда хлынул общий свет.
Я слышу, как они стучат,-
пять топоров и пять лопат.
СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ПСКОВСКОЙ ГОСТИНИЦЕ
С тех самых пор, как был допущен
в ряды словесности самой,
я все мечтал к тебе, как Пущин,
приехать утром и зимой.
И по дороге возле Пскова,-
чтоб все, как было, повторить,-
мне так хотелось ночью снова
тебе шампанского купить.
И чтоб опять на самом деле,
пока окрестность глухо спит,
полозья бешено скрипели
и снег стучал из-под копыт.
Все получилось по-иному:
день щебетал, жужжал и цвел,
когда я к пушкинскому дому
нетерпеливо подошел.
Но из-под той заветной крыши
на то крылечко без перил
ты сам не выбежал, не вышел
и даже дверь не отворил.
...И, сидя над своей страницей,
я понял снова и опять,
что жизнь не может повториться,
ее не надо повторять.
А надо лишь с благоговеньем,
чтоб дальше действовать и быть,
те отошедшие виденья
в душе и памяти хранить.
СЕРДЦЕ БАЙРОНА
В Миссолунгской низине,
меж каменных плит,
сердце мертвое Байрона
ночью стучит.
Партизанами Греции
погребено,
от карательных залпов
проснулось оно.
Нету сердцу покоя
в могиле сырой
под балканской землей,
под британской пятой.
___
На московском бульваре,
глазаст, невысок,
у газетной витрины
стоит паренек.
Пулеметными трассами
освещена
на далеких Балканах
чужая страна.
Он не может
в ряды твоей армии стать,
по врагам твоей армии
очередь дать.
Не гранату свою
и не свой пулемет -
только сердце свое
он тебе отдает.
Под большие знамена
полка своего,
патриоты,
зачислите сердце его.
Пусть оно
на далеких балканских полях
бьется храбро и яростно
в ваших рядах.
___
Душной ночью
заморский строчит автомат,
наделяя Европу
валютой свинца,
но, его заглушая,
все громче стучат
сердце Байрона,
наши живые сердца.
АНГЛИЙСКАЯ БАЛЛАДА
На мыльной кобыле летит гонец:
"Король поручает тебе, кузнец,
сработать из тысячи тысяч колец
платье для королевы".
Над черной кузницей дождь идет.
Вереск цветет. Метель метет.
И днем и ночью кузнец кует
платье для королевы.
За месяцем - месяц, за годом - год
горн все горит и все молот бьет,-
то с лютою злобой кузнец кует
платье для королевы.
Он стал горбатым, а был прямым.
Он был златокудрым, а стал седым.
И очи весенние выел дым
платья для королевы.
Жена умерла, а его не зовут.
Чужие детей на кладбище несут.
- Так будь же ты проклят, мой вечный труд
платье для королевы!
Когда-то я звезды любил считать,
я тридцать лет не ложился спать,
а мог бы за утро одно отковать
цепи для королевы.
НЕГР В МОСКВЕ
Невозможно не вклиниться
в человеческий водоворот -
у подъезда гостиницы
тесно толпится народ.
Не зеваки беспечные,
что на всех перекрестках торчат,-
дюжий парень из цеха кузнечного,
комсомольская стайка девчат.
Искушенный в политике
и по части манер,
в шляпе, видевшей видики,
консультант-инженер.
Тут же - словно игрушечка
на кустарном лотке -
боевая старушечка
в темноватом платке.
И прямые, отменные,
непреклонные, как на часах,
молодые военные
в малых - покамест - чинах.
Как положено воинству,
не скрываясь в тени,
с непреложным достоинством
держатся строго они.
Под бесшумными кронами
зеленеющих лип городских -
ни трибун с микрофонами,
ни знамен никаких.
Догадались едва ли вы,
отчего здесь народ:
черный сын Сенегалии
руки белые жмет.
Он, как статуя полночи,
черен, строен и юн.
В нашу русскую елочку
небогатый костюм.
По сорочке подштопанной
узнаем наугад:
не буржуйчик (ах, чтобы им!),
наш, трудящийся брат.
Добродушие голоса,
добродушный зрачок.
Вместо русого волоса -
черный курчавый пушок.
И выходит, не знали мы -
не поверить нельзя,-
что и в той Сенегалии
у России друзья.
Не пример обольщения,
не любовь напоказ,
а простое общение
человеческих рас.
Светит солнце весеннее
над омытой дождями Москвой,
и у всех настроение -
словно праздник какой.
РЕЧЬ ФИДЕЛЯ КАСТРО В НЬЮ-ЙОРКЕ
Зароптал
и захлопал восторженно
зал -
это с дальнего кресла
медлительно встал
и к трибуне пошел -
казуистам на страх -
вождь кубинцев
в солдатских своих башмаках.
Пусть проборам и усикам
та борода
ужасающей кажется -
что за беда?
Ни для сладеньких фраз,
ни для тонких острот
не годится
охрипший ораторский рот.
Непривычны
для их респектабельных мест
твой внушительный рост
и решающий жест.
А зачем их жалеть,
для чего их беречь? -
пусть послушают
эту нелегкую речь.
С ними прямо и грубо -
так время велит -
Революция Кубы
сама
говорит.
На таком же подъеме,
таким языком
разговаривал некогда
наш Совнарком.
И теперь,
если надо друзей защитить,
мы умеем
таким языком говорить.
И теперь,
если надо врагов покарать,
мы умеем
такие же речи держать.
РАЗГОВОР О ПОЭЗИИ
Ты мне сказал, небрежен и суров,
что у тебя - отрадное явленье!-
есть о любви четыреста стихов,
а у меня два-три стихотворенья.
Что свой талант (а у меня он был,
и, судя по рецензиям, не мелкий)
я чуть не весь, к несчастью, загубил
на разные гражданские поделки.
И выходило - мне резону нет
из этих обличений делать тайну,-
что ты - всепроникающий поэт,
а я - лишь так, ремесленник случайный.
Ну что ж, ты прав. В альбомах у девиц,
средь милой дребедени и мороки,
в сообществе интимнейших страниц
мои навряд ли попадутся строки.
И вряд ли что, открыв красиво рот,
когда замолкнут стопки и пластинки,
мой грубый стих томительно споет
плешивый гость притихшей вечеринке.
Помилуй бог!- я вовсе не горжусь,
а говорю не без душевной боли,
что, видимо, не очень-то гожусь
для этакой литературной роли.
Я не могу писать по пустякам,
как словно бы мальчишка желторотый,-
иная есть нелегкая работа,
иное назначение стихам.
Меня к себе единственно влекли -
я только к вам тянулся по наитью -
великие и малые событья
чужих земель и собственной земли.
Не так-то много написал я строк,
не все они удачны и заметны,
радиостудий рядовой пророк,
ремесленник журнальный и газетный.
Мне в общей жизни, в общем, повезло,
я знал ее и крупно и подробно.
И рад тому, что это ремесло
созданию истории подобно.
1958
ЗДРАВСТВУЙ, ПУШКИН!
Здравствуй, Пушкин! Просто страшно это -
словно дверь в другую жизнь открыть -
мне с тобой, поэтом всех поэтов,
бедными стихами говорить.
Быстрый, шаг и взгляд прямой и быстрый -
жжет мне сердце Пушкин той поры:
визг полозьев, песни декабристов,
ямбы ссыльных, сказки детворы.
В январе тридцать седьмого года
прямо с окровавленной земли
подняли тебя мы всем народом,
бережно, как сына, понесли.
Мы несли тебя - любовь и горе -
долго и бесшумно, как во сне,
не к жене и не к дворцовой своре -
к новой жизни, к будущей стране.
Прямо в очи тихо заглянули,
окружили нежностью своей,
сами, сами вытащили пулю
и стояли сами у дверей.
Мы твоих убийц не позабыли:
в зимний день, под заревом небес,
мы царю России возвратили
пулю, что послал в тебя Дантес.
Вся Отчизна в праздничном цветенье.
Словно песня, льется вешний свет,
Здравствуй, Пушкин! Здравствуй, добрый гений!
С днем рожденья, дорогой поэт!
ДВА ПЕВЦА
Были давно
два певца у нас:
голос свирели
и трубный глас.
Хитро зрачок
голубой блестит -
всех одурманит
и всех прельстит.
Громко открыт
беспощадный рот -
всех отвоюет
и все сметет.
Весело в зале
гудят слова.
Свесилась
бедная голова.
Легкий шажок
и широкий шаг.
И над обоими
красный флаг.
Над Ленинградом
Метет метель.
В номере темном
молчит свирель.
В окнах московских
блестит апрель.
Пуля нагана
попала в цель.
Тускло и страшно
блестит глазет.
Кровью намокли
листы газет.
...Беленький томик
лениво взять -
между страниц
золотая прядь.
Между прелестных
нежнейших строк
грустно лежит
голубой цветок.
Благоговея, открыть
тома -
между обложками
свет и тьма,
вихрь революции,
гул труда,
волны,
созвездия,
города.
...Все мы окончимся,
все уйдем
зимним
или весенним днем.
Но не хочу я
ни женских слез,
ни на виньетке
одних берез.
Бог моей жизни,
вручи мне медь,
дай мне веселие
прогреметь.
Дай мне отвагу,
трубу,
поход,
песней победной
наполни рот.
Посох пророческий
мне вручи,
слову и действию
научи.
1946
МАЯКОВСКИЙ
Из поэтовой мастерской,
не теряясь в толпе московской,
шел по улице по Тверской
с толстой палкою Маяковский.
Говорлива и широка,
ровно плещет волна народа
за бортом его пиджака,
словно за бортом парохода.
Высока его высота,
глаз рассерженный смотрит косо,
и зажата в скульптуре рта
грубо смятая папироса.
Всей столице издалека
очень памятна эта лепка:
чисто выбритая щека,
всероссийская эта кепка.
Счастлив я, что его застал
и, стихи заучив до корки,
на его вечерах стоял,
шею вытянув, на галерке.
Площадь зимняя вся в огнях,
дверь подъезда берется с бою,
и милиция на конях
над покачивающейся толпою.
У меня ни копейки нет,
я забыл о монетном звоне,
но рублевый зажат билет -
все богатство мое - в ладони.
Счастлив я, что сквозь зимний дым
после вечера от Музея
в отдалении шел за ним,
не по-детски благоговея.
Как ты нужен стране сейчас,
клубу, площади и газетам,
революции трубный бас,
голос истинного поэта!
1956
УЧЕНИК ДЖАМБУЛА
Среди писателей Москвы сутулых
сидел свободно, как в степи сидят,
сын Казахстана, ученик Джамбула,
плечистый, пламенный, широкоскулый,
коричневый от солнца азиат.
Глядеть нам на него - не наглядеться.
Так только может мужество на детство -
глаза в глаза - с надеждою глядеть.
А он смотрел с любовью, виновато -
так смотрит мальчик на старшого брата,
успевшего в разлуке поседеть.
Как не запеть?
И в маленькой гостиной,
среди цветов и мебели старинной,
запела тонким голоском струна.
И, вторя ей, звучит запев акына,
как строки думы, как напев былины,
как медленно шумящая волна.
И вдруг томленье переходит в бурю.
Певец сидит, косые очи щуря,
рукою темною по струнам бьет.
Что может быть на свете вдохновенней,
чем возрожденного народа гений,
освобожденной музыки полет?
Струна замолкла, и строка уснула,
сидит устало ученик Джамбула,
свой инструмент к колену прислоня.
Лишь крупный рот от радости смеется,
лишь сердце переполненное бьется,
и лишь глаза исполнены огня.
МАЛЬЧИШКИ
О прошлом зная понаслышке,
с жестокой резвостью волчат
в спортивных курточках мальчишки
в аудиториях кричат.
Зияют в их стихотвореньях
с категоричной прямотой
непониманье, и прозренье,
и правота, и звук пустой.
Мне б отвернуться отчужденно,
но я нисколько не таюсь,
что с добротою раздраженной
сам к этим мальчикам тянусь.
Я сделал сам не так уж мало,
и мне, как дядьке иль отцу,
и ублажать их не пристало,
и унижать их не к лицу.
Мне непременно только надо -
точнее не могу сказать -
сквозь их смущенность и браваду
сердца и душу увидать.
Ведь все двадцатое столетье -
весь ветер счастья и обид -
и нам, и вам, отцам и детям,
по-равному принадлежит.
И мы, без ханжества и лести,
за все, чем дышим и живем,
не по-раздельному, а вместе
свою ответственность несем.
1963
НАШ ГЕРБ
Случилось это
в тот великий год,
когда восстал
и победил народ.
В нетопленный
кремлевский кабинет
пришли вожди державы
на Совет.
Сидели с ними
за одним столом
кузнец с жнеей,
ткачиха с батраком.
А у дверей,
отважен и усат,
стоял с винтовкой
на посту солдат.
Совет решил:
- Мы на земле живем
и нашу землю
сделаем гербом.
Пусть на гербе,
как в небе, навсегда
сияет солнце
и горит звезда.
А остальное -
трижды славься, труд!-
пусть делегаты
сами принесут.
Принес кузнец
из дымной мастерской
свое богатство -
вечный молот свой.
В куске холста
из дальнего села
свой острый серп
крестьянка принесла.
Тяжелый сноп,
в колосьях и в цветах,
батрак принес
в натруженных руках.
И, сапогами
мерзлыми стуча,
внесла ткачиха
свиток кумача.
И молот тот,
что кузнецу служил,
с большим серпом
Совет соединил.
Тяжелый сноп,
наполненный зерном,
Совет обвил
октябрьским кумачом.
И лозунг наш,
по слову Ильича,
начертан был
на лентах кумача.
Хотел солдат -
не смог солдат смолчать -
свою винтовку
для герба отдать.
1948
ЗЕМЛЯНИКА
Средь слабых луж и предвечерних бликов,
на станции, запомнившейся мне,
две девочки с лукошком земляники
застенчиво стояли в стороне.
В своих платьишках, стираных и старых,
они не зазывали никого,
два маленькие ангела базара,
не тронутые лапами его.
Они об этом думали едва ли,
хозяечки светающих полян,
когда с недетским тщаньем продавали
ту ягоду по два рубля стакан.
Земли зеленой тоненькие дочки,
сестренки перелесков и криниц,
и эти их некрепкие кулечки
из свернутых тетрадочных страниц,
где тихая работа семилетки,
свидетельства побед и неудач
и педагога красные отметки
под кляксами диктантов и задач...
Проехав чуть не половину мира,
держа рублевки смятые в руках,
шли прямо к их лукошку пассажиры
в своих пижамах, майках, пиджаках.
Не побывав на маленьком вокзале,
к себе кулечки бережно прижав,
они, заметно подобрев, влезали
в уже готовый тронуться состав.
На этот раз, не поддаваясь качке,
на полку забираться я не стал -
ел ягоды. И хитрые задачки
по многу раз пристрастно проверял.
1957
ДАЕШЬ
Купив на попутном вокзале
все краски, что были, подряд,
два друга всю ночь рисовали,
пристроясь на полке, плакат.
И сами потом восхищенно,
как знамя пути своего,
снаружи на стенке вагона
приладили молча его.
Плакат удался в самом деле,
мне были как раз по нутру
на фоне тайги и метели
два слова: "Даешь Ангару!"
Пускай, у вагона помешкав,
всего не умея постичь,
зеваки глазеют с усмешкой
на этот пронзительный клич.
Ведь это ж не им на потеху
по дальним дорогам страны
сюда докатилось, как эхо,
словечко гражданской войны.
Мне смысл его дорог ядреный,
желанна его красота.
От этого слова бароны
бежали, как черт от креста.
Ты сильно его понимала,
тридцатых годов молодежь,
когда беззаветно орала
на митингах наших: "Даешь!"
Винтовка, кумач и лопата
живут в этом слове большом.
Ну что ж, что оно грубовато,-
мы в грубое время живем.
Я против словечек соленых,
но рад побрататься с таким:
ведь мы-то совсем не в салонах
историю нашу творим.
Ведь мы и доныне, однако,
живем, ни черта не боясь.
Под тем восклицательным знаком
Советская власть родилась!
Наш поезд все катит и катит,
с дороги его не свернешь,
и ночью горит на плакате
воскресшее слово "Даешь!"
1957
РЯЗАНСКИЕ МАРАТЫ
Когда-нибудь, пускай предвзято,
обязан будет вспомнить свет
всех вас, рязанские Мараты
далеких дней, двадцатых лет.
Вы жили истинно и смело
под стук литавр и треск пальбы,
когда стихала и кипела
похлебка классовой борьбы.
Узнав о гибели селькора
иль об убийстве избача,
хватали вы в ночную пору
тулуп и кружку первача
и - с ходу - уезжали сами
туда с наганами в руках.
Ох, эти розвальни и сани
без колокольчика, впотьмах!
Не потаенно, не келейно -
на клубной сцене, прямо тут,
при свете лампы трехлинейной
вершились следствие и суд.
Не раз, не раз за эти годы -
на свете нет тяжельше дел!-
людей, от имени народа,
вы посылали на расстрел.
Вы с беспощадностью предельной
ломали жизнь на новый лад
в краю ячеек и молелен,
средь бескорыстья и растрат.
Не колебались вы нимало,
За ваши подвиги страна
вам - равной мерой - выдавала
выговора и ордена.
И гибли вы не в серной ванне,
не от надушенной руки.
Крещенской ночью в черной бане
вас убивали кулаки.
Вы ныне спите величаво,
уйдя от санкций и забот,
и гул забвения и славы
над вашим кладбищем плывет.
1961
ИСТОРИЯ
И современники, и тени
в тиши беседуют со мной.
Острее стало ощущенье
Шагов Истории самой.
Она своею тьмой и светом
меня омыла и ожгла.
Все явственней ее приметы,
понятней мысли и дела.
Мне этой радости доныне
не выпадало отродясь.
И с каждым днем нерасторжимей
вся та преемственная связь.
Как словно я мальчонка в шубке
и за тебя, родная Русь,
как бы за бабушкину юбку,
спеша и падая, держусь.
1966
ИВАН КАЛИТА
Сутулый, больной, бритолицый,
уже не боясь ни черта,
по улицам зимней столицы
иду, как Иван Калита.
Слежу, озираюсь, внимаю,
опять начинаю сперва
и впрок у людей собираю
на паперти жизни слова.
Мне эта работа по средствам,
по сущности самой моей;
ведь кто-то же должен наследство
для наших копить сыновей.
Нелегкая эта забота,
но я к ней, однако, привык.
Их много, теперешних мотов,
транжирящих русский язык.
Далеко до смертного часа,
а легкая жизнь не нужна.
Пускай богатеют запасы,
и пусть тяжелеет мошна.
Словечки взаймы отдавая,
я жду их обратно скорей.
Не зря же моя кладовая
всех нынешних банков полней.
1966
КОМАНДАРМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Мне Красной Армии главкомы,
молодцеваты и бледны,
хоть понаслышке, но знакомы,
и не совсем со стороны.
Я их не знал и не узнаю
так, как положено, сполна.
Но, словно песню, вспоминаю
тех наступлений имена.
В петлицах шпалы боевые
за легендарные дела.
По этим шпалам вся Россия,
как поезд, медленно прошла.
Уже давно суконных шлемов
в музеях тлеют шишаки.
Как позабытые поэмы,
молчат почетные клинки.
Как будто отблески на меди,
когда над книгами сижу,
в тиши больших энциклопедий
я ваши лица нахожу.
1966
БЕЛОРУСАМ
Вы родня мне по крови и вкусу,
по размаху идей и работ,
белорусы мои, белорусы,
трудовой и веселый народ.
Хоть ушел я оттуда мальчишкой
и недолго на родине жил,
но тебя изучал не по книжкам,
не по фильмам тебя полюбил.
Пусть с родной деревенькою малой
беспредельно разлука долга,
но из речи моей не пропало
белорусское мягкое "га".
Ну, а ежели все-таки надо
перед недругом Родины встать,
речь моя по отцовскому складу
может сразу же твердою стать.
Испытал я несчастья и ласку,
стал потише, помедленней жить,
но во мне еще ваша закваска
не совсем перестала бродить.
Пусть сегодня простится мне лично,
что, о собственной вспомнив судьбе,
я с высокой трибуны столичной
говорю о себе да себе.
В том, как, подняв заздравные чаши
вас встречает по-братски Москва,
есть всеобщее дружество наше,
социальная сила родства.
1968
РУССКИЙ ЯЗЫК
У бедной твоей колыбели,
еще еле слышно сперва,
рязанские женщины пели,
роняя, как жемчуг, слова.
Под лампой кабацкой неяркой
на стол деревянный поник
у полной нетронутой чарки,
как раненый сокол, ямщик.
Ты шел на разбитых копытах,
в кострах староверов горел,
стирался в бадьях и корытах,
сверчком на печи свиристел.
Ты, сидя на позднем крылечке,
закату подставя лицо,
забрал у Кольцова колечко,
у Курбского занял кольцо.
Вы, прадеды наши, в неволе,
мукою запудривши лик,
на мельнице русской смололи
заезжий татарский язык.
Вы взяли немецкого малость,
хотя бы и больше могли,
чтоб им не одним доставалась
ученая важность земли.
Ты, пахнущий прелой овчиной
и дедовским острым кваском,
писался и черной лучиной
и белым лебяжьим пером.
Ты - выше цены и расценки -
в году сорок первом, потом
писался в немецком застенке
на слабой известке гвоздем.
Владыки и те исчезали
мгновенно и наверняка,
когда невзначай посягали
на русскую суть языка.
1966
СУДЬЯ
Упал на пашне у высотки
суровый мальчик из Москвы;
и тихо сдвинулась пилотка
с пробитой пулей головы.
Не глядя на беззвездный купол
и чуя веянье конца,
он пашню бережно ощупал
руками быстрыми слепца.
И, уходя в страну иную
от мест родных невдалеке,
он землю теплую, сырую
зажал в коснеющей руке.
Горсть отвоеванной России
он захотел на память взять,
и не сумели мы, живые,
те пальцы мертвые разжать.
Мы так его похоронили -
в его военной красоте -
в большой торжественной могиле
на взятой утром высоте.
И если правда будет время,
когда людей на Страшный суд
из всех земель, с грехами всеми,
трикратно трубы призовут,-
предстанет за столом судейским
не бог с туманной бородой,
а паренек красноармейский
пред потрясенною толпой,
держа в своей ладони правой,
помятой немцами в бою,
не символы небесной славы,
а землю русскую свою.
Он все увидит, этот мальчик,
и ни йоты не простит,
но лесть от правды, боль от фальши
и гнев от злобы отличит.
Он все узнает оком зорким,
с пятном кровавым на груди,
судья в истлевшей гимнастерке,
сидящий молча впереди.
И будет самой высшей мерой,
какою мерить нас могли,
в ладони юношеской серой
та горсть тяжелая земли.
1942
ВОСПОМИНАНЬЕ
Любил я утром раньше всех
зимой войти под крышу эту,
когда еще ударный цех
чуть освещен дежурным светом.
Когда под тихой кровлей той
все, от пролета до пролета,
спокойно дышит чистотой
и ожиданием работы.
В твоем углу, машинный зал,
склонившись над тетрадкой в клетку,
я безыскусно воспевал
России нашей пятилетку.
Но вот, отряхивая снег,
все нарастая постепенно,
в платках и шапках в длинный цех
входила утренняя смена.
Я резал и строгал металл,
запомнив мастера уроки,
и неотвязно повторял
свои предутренние строки.
И многие из этих строк
еще безвестного поэта
печатал старый "Огонек"
средь информаций и портретов.
Журнал был тоньше и бедней,
но, путь страны припоминая,
подшивку тех далеких дней
я с гордой нежностью листаю.
В те дни в заводской стороне,
у проходной, вблизи столовой,
встречаться муза стала мне
в своей юнгштурмовке суровой.
Она дышала горячо
и шла вперед без передышки
с лопатой, взятой на плечо,
и "Политграмотой" под мышкой.
Она в решающей борьбе,
о тонкостях заботясь мало,
хрипела в радиотрубе,
агитплакаты малевала.
Рукою властной
паренька
она манила за собою,
и красный цвет ее платка
стал с той поры моей судьбою.
1950
ЛЕНИН
Мне кажется, что я не в зале,
а, годы и стены пройдя,
стою на Финляндском вокзале
и слушаю голос вождя.
Пространство и время нарушив,
мне голос тот в сердце проник,
и прямо на площадь, как в душу,
железный идет броневик.
Отважный, худой, бородатый -
гроза петербургских господ,-
я вместе с окопным солдатом
на Зимний тащу пулемет.
Земля, как осина, дрожала,
когда наш отряд штурмовал.
Нам совесть идти приказала,
нас Ленин на это послал.
Знамена великих сражений,
пожары гражданской войны...
Как смысл человечества, Ленин
стоит на трибуне страны.
Я в грозных рядах растворяюсь,
я ветром победы дышу
и, с митинга в бой отправляясь,
восторженно шапкой машу.
Не в траурном зале музея -
меж тихих московских домов
я руки озябшие грею
у красных январских костров.
Ослепли глаза от мороза,
ослабли от туч снеговых.
и ваши, товарищи, слезы
в глазах застывают моих...
1949
МИЧУРИНСКИЙ САД
Оценив строителей старанье,
оглядев все дальние углы,
я услышал ровное жужжанье,
тонкое гудение пчелы.
За пчелой пришел я в это царство
посмотреть внимательно, как тут
возле гряд целебного лекарства
тоненькие яблони растут;
как стоит, не слыша пташек певчих,
в старомодном длинном сюртуке
каменный молчащий человечек
с яблоком, прикованным к руке.
Он молчит, воитель и ваятель,
сморщенных не опуская век,-
царь садов, самой земли приятель,
седенький сутулый человек.
Снял он с ветки вяжущую грушу,
на две половинки разделил
и ее таинственную душу
в золотое яблоко вложил.
Я слежу томительно и длинно,
как на солнце светится пыльца
и стучат, сливаясь воедино,
их миндалевидные сердца.
Рассыпая маленькие зерна,
по колено в северных снегах,
ковыляет деревце покорно
на кривых беспомощных ногах.
Я молчу, волнуясь в отдаленье,
я бы отдал лучшие слова,
чтоб достигнуть твоего уменья,
твоего, учитель, мастерства.
Я бы сделал горбуна красивым,
слабовольным силу бы привил,
дал бы храбрость нежным, а трусливых
храбрыми сердцами наделил.
А себе одно б оставил свойство -
жизнь прожить, как ты прожил ее,
творческое слыша беспокойство,
вечное волнение свое.
1939
* * *
Вот опять ты мне вспомнилась, мама,
и глаза твои, полные слез,
и знакомая с детства панама
на венке поредевших волос.
Оттеняет терпенье и ласку
потемневшая в битвах Москвы
материнского воинства каска -
украшенье седой головы.
Все стволы, что по русским стреляли,
все осколки чужих батарей
неизменно в тебя попадали,
застревали в одежде твоей.
Ты заштопала их, моя мама,
но они все равно мне видны,
эти грубые длинные шрамы -
беспощадные метки войны...
Дай же, милая, я поцелую,
от волненья дыша горячо,
эту бедную прядку седую
и задетое пулей плечо.
В дни, когда из окошек вагонных
мы глотали движения дым
и считали свои перегоны
по дорогам к окопам своим,
как скульптуры из ветра и стали,
на откосах железных путей
днем и ночью бессменно стояли
батальоны седых матерей.
Я не знаю, отличья какие,
не умею я вас разделять:
ты одна у меня, как Россия,
милосердная русская мать.
Это слово протяжно и кратко
произносят на весях родных
и младенцы в некрепких кроватках
и солдаты в могилах своих.
Больше нет и не надо разлуки,
и держу я в ладони своей
эти милые трудные руки,
словно руки России моей.
1945
* * *
Там, где звезды светятся в тумане,
мерным шагом ходят марсиане.
На холмах монашеского цвету
ни травы и ни деревьев нету.
Серп не жнет, подкова не куется,
песня в тишине не раздается.
Нет у них ни счастья, ни тревоги -
все отвергли маленькие боги.
И глядят со скукой марсиане
на туман и звезды мирозданья.
...Сколько раз, на эти глядя дали,
о величье мы с тобой мечтали!
Сколько раз стояли мы смиренно
перед грозным заревом вселенной!
...У костров солдатского привала
нас иное пламя озаряло.
На морозе, затаив дыханье,
выпили мы чашу испытанья.
Молча братья умирали в ротах.
Пели школьницы на эшафотах.
И решили пехотинцы наши
вдоволь выпить из победной чаши.
Было марша нашего начало
как начало горного обвала.
Пыль клубилась. Пенились потоки.
Трубачи трубили, как пророки.
И солдаты медленно, как судьи,
наводили тяжкие орудья.
Дым сраженья и труба возмездья.
На фуражках алые созвездья.
...Спят поля, засеянные хлебом.
Звезды тихо освещают небо.
В темноте над братскою могилой
пять лучей звезда распространила.
Звезды полуночные России.
Звездочки армейские родные.
...Телескопов точное мерцанье
мне сегодня чудится вдали:
словно дети, смотрят марсиане
на Великих Жителей Земли.
1946
КРЕМЛЕВСКИЕ ЕЛИ
Это кто-то придумал
счастливо,
что на Красную площадь
привез
не плакучее
празднество ивы
и не легкую сказку
берез.
Пусть кремлевские
темные ели
тихо-тихо
стоят на заре,
островерхие
дети метели -
наша память
о том январе.
Нам сродни
их простое убранство,
молчаливая
их красота,
и суровых ветвей
постоянство,
и сибирских стволов
прямота.
1946
* * *
Рожденный в далекие годы
под смутною сельской звездой,
я русскую нашу природу
не хуже люблю, чем другой.
Крестьянскому внуку и сыну
нельзя позабыть погодя
скопленья берез и осинок
сквозь мелкую сетку дождя.
Нельзя даже в шутку отречься,
нельзя отказаться от них -
от малых родительских речек,
от милых цветов полевых.
Но, видно, уж так воспитала
меня городская среда,
что ближе мне воздух металла
и гул коллективный труда.
И я, в настроенье рабочем,
входя в наступательный раж,
люблю, когда он разворочен,
тот самый прелестный пейзаж.
Рабочие смены и сутки,
земли темно-серой валы,
дощатые - наскоро - будки
и сбитые с ходу столы!
Колес и взрывчатки усилья,
рабочая хватка и стать!
Не то чтобы дымом и пылью
мне нравилось больше дышать,
но я полюбил без оглядки
всей сущностью самой своей
строительный воздух площадки
предтечи больших площадей.
1961
НАДПИСЬ НА "ИСТОРИИ РОССИИ" СОЛОВЬЕВА
История не терпит славословья,
трудна ее народная стезя.
Ее страницы, залитые кровью,
нельзя любить бездумною любовью
и не любить без памяти нельзя.
1966
АННА АХМАТОВА
Не позабылося покуда
и, надо думать, навсегда,
как мы встречали Вас оттуда
и провожали Вас туда.
Ведь с Вами связаны жестоко
людей ушедших имена:
от императора до Блока,
от Пушкина до Кузмина.
Мы ровно в полдень были в сборе
совсем не в клубе городском,
а в том Большом морском соборе,
задуманном еще Петром.
И все стояли виновато
и непривычно вдоль икон -
без полномочий делегаты
от старых питерских сторон.
По завещанью, как по визе,
гудя на весь лампадный зал,
сам протодьякон в светлой ризе
Вам отпущенье возглашал.
Он отпускал Вам перед богом
все прегрешенья и грехи,
хоть было их не так уж много:
одни поэмы да стихи.
1966
ИЗВИНЕНИЕ ПЕРЕД НАТАЛИ
Теперь уже не помню даты -
ослабла память, мозг устал,-
но дело было: я когда-то
про Вас бестактно написал.
Пожалуй, что в какой-то мере
я в пору ту правдивым был.
Но Пушкин Вам нарочно верил
и Вас, как девочку, любил.
Его величие и слава,
уж коль по чести говорить,
мне не давали вовсе права
Вас и намеком оскорбить.
Я не страдаю и не каюсь,
волос своих не рву пока,
а просто тихо извиняюсь
с той стороны, издалека.
Я Вас теперь прошу покорно
ничуть злопамятной не быть
и тот стишок, как отблеск черный,
средь развлечений позабыть.
Ах, Вам совсем нетрудно это:
ведь и при жизни Вы смогли
забыть великого поэта -
любовь и горе всей земли.
МАШЕНЬКА
Происходило это, как ни странно,
не там, где бьет по берегу прибой,
не в Дании старинной и туманной,
а в заводском поселке под Москвой.
Там жило, вероятно, тысяч десять,
я не считал, но полагаю так.
На карте мира, если карту взвесить,
поселок этот - ерунда, пустяк.
Но там была на месте влажной рощи,
на нет сведенной тщанием людей,
как и в столицах, собственная площадь
и белый клуб, поставленный на ней.
И в этом клубе, так уж было надо,-
нам отставать от жизни не с руки,-
кино крутилось, делались доклады
и занимались всякие кружки.
Они трудились, в общем, не бесславно,
тянули все, кто как умел и мог.
Но был средь них, как главный между равных,
бесспорно, драматический кружок.
Застенчива и хороша собою,
как стеклышко весеннее светла,
его премьершей и его душою
у нас в то время Машенька была.
На шаткой сцене зрительного зала
на фоне намалеванных небес
она, светясь от радости, играла
чекисток, комсомолок и принцесс.
Лукавый взгляд, и зыбкая походка,
и голосок, волнительный насквозь...
Мещаночка, девчонка, счетоводка,-
нельзя понять, откуда что бралось?
Ей помогало чувствовать событья,
произносить высокие слова
не мастерство, а детское наитье,
что иногда сильнее мастерства.
С естественной смущенностью и болью,
от ощущенья жизни весела,
она не то чтобы вживалась в роли,
она ролями этими жила.
А я в те дни, не требуя поблажки,
вертясь, как черт, с блокнотом и пером,
работал в заводской многотиражке
ответственным ее секретарем.
Естественно при этой обстановке,
что я, отнюдь не жулик и нахал,
по простоте на эти постановки
огромные рецензии писал.
Они воспринимались с интересом
и попадали в цель наверняка
лишь потому, что остальная пресса
не замечала нашего кружка.
Не раз, не раз - солгать я не посмею -
сам режиссер дарил улыбку мне:
Василь Васильич с бабочкой на шее,
в качаловском блистающем пенсне.
Я Машеньку и ныне вспоминаю
на склоне лет, в другом краю страны.
Любил ли я ее?
Теперь не знаю,-
мы были все в ту пору влюблены.
Я вспоминаю не без нежной боли
тот грузовик давно ушедших дней,
в котором нас возили на гастроли
по ближним клубам юности моей.
И шум кулис, и дружный шепот в зале,
и вызовы по многу раз подряд,
и ужины, какие нам давали
в ночных столовках - столько лет назад!
Но вот однажды...
Понимает каждый
или поймет, когда настанет час,
что в жизни все случается однажды,
единожды и, в общем, только раз.
Дают звонки. Уже четвертый сдуру.
Партер гудит. Погашен в зале свет.
Оркестрик наш закончил увертюру.
Пора! Пора!
А Машеньки все нет.
Василь Васильич донельзя расстроен,
он побледнел и даже спал с лица,
как поседелый в грозных битвах воин,
увидевший предательство юнца.
Снимают грим кружковцы остальные.
Ушел партер, и опустел балкон.
Так в этот день безрадостный - впервые
спектакль был позорно отменен.
Назавтра утром с тихой ветвью мира,
чтоб нам не оставаться в стороне,
я был направлен к Маше на квартиру,
Но дверь ее не открывалась мне.
А к вечеру, рожденный в смраде где-то
из шепота шекспировских старух,
нам принесли в редакцию газеты
немыслимый, но достоверный слух.
И услыхала заводская пресса,
упрятав в ящик срочные дела,
что наша поселковая принцесса,
как говорят на кухнях, понесла.
Совет семьи ей даровал прощенье.
Но запретил (чтоб все быстрей забыть)
не то чтоб там опять играть на сцене,
а даже близко к клубу подходить.
Я вскорости пошел к ней на работу,
мне нужен был жестокий разговор...
Она прилежно щелкала на счетах
в халатике, скрывающем позор.
Не удалось мне грозное начало.
Ты ожидал смятенности - изволь!
Она меня ничуть не замечала -
последняя разыгранная роль.
Передо мной спокойно, достославно,
внушительно сидела вдалеке
не Машенька, а Марья Николавна
с конторским карандашиком в руке.
Уже почти готовая старуха,
живущая степенно где-то там.
Руины развалившегося духа,
очаг погасший, опустелый храм.
А через день, собравшись без изъятья
и от завкома выслушав урок,
возобновил вечерние занятья
тот самый драматический кружок.
Не вечно ж им страдать по женской доле
и повторять красивые слова.
Все ерунда!
И Машенькины роли
взяла одна прекрасная вдова.
Софиты те же, мизансцены те же,
все так же дружно рукоплещет зал.
Я стал писать рецензии все реже,
а вскорости и вовсе перестал.
КСЕНЯ НЕКРАСОВА
Что мне, красавицы, ваши роскошные тряпки,
ваша изысканность, ваши духи и белье?-
Ксеня Некрасова в жалкой соломенной шляпке
в стихотворение медленно входит мое.
Как она бедно и как неискусно одета!
Пахнет от кройки подвалом или чердаком.
Вы не забыли стремление Ксенино это -
платье украсить матерчатым мятым цветком?
Жизнь ее, в общем, сложилась не очень удачно:
пренебреженье, насмешечки, даже хула.
Знаю я только, что где-то на станции дачной,
вечно без денег, она всухомятку жила.
На электричке в столицу она приезжала
с пачечкой новых, наивных до прелести строк.
Редко когда в озабоченных наших журналах
вдруг появлялся какой-нибудь Ксенин стишок.
Ставила буквы большие она неумело
на четвертушках бумаги, в блаженной тоске.
Так третьеклассница, между уроками, мелом
в детском наитии пишет на школьной доске.
Малой толпою, приличной по сути и с виду,
сопровождался по улицам зимним твой прах.
Не позабуду гражданскую ту панихиду,
что в крематории мы провели второпях.
И разошлись, поразъехались сразу, до срока,
кто - на собранье, кто - к детям, кто - попросту пить,
лишь бы скорее избавиться нам от упрека,
лишь бы быстрее свою виноватость забыть.
НИКОЛАЙ СОЛДАТЕНКОВ
Наглотавшись вдоволь пыли
в том году сорок втором,
мы с тобою жили-были
в батальоне трудовом.
Ночевали мы на пару
недалеко под Москвой
на дощатых голых нарах,
на перине пуховой.
Как случайные подружки
в неприветливом дому,
ненавидели друг дружку
по укладу, по уму.
Но когда ты сам, с охотой,
еле сдерживая пыл,
чтоб работалась работа,
электродиком варил,
ах, когда ты, друг любезный
(за охулку не взыщи),
кипятил тот лом железный,
как хозяечка борщи,
как хозяюшка России,
на глаза набрав платок,
чтобы очи ей не выел
тот блестящий кипяток,-
я глядел с любовной верой,
а совсем не напоказ,
как Успенский пред Венерой,
прочитай его рассказ.
Надо думать, очевидно,
выпивоха и нахал,
ты меня тайком, солидно
за работу уважал,-
если, тощий безобразник
(ты полнее вряд ли стал)
мне вчера, как раз под праздник,
поздравление прислал.
АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ
Мне во что бы то ни стало
надо б встретиться с тобой,
русской песни запевала
и ее мастеровой.
С обоюдным постоянством
мы б послали с кондачка
все романсы-преферансы
для частушки и очка.
Володимирской породы
достославный образец,
добрый молодец народа,
госэстрады молодец.
Ты никак не ради денег,
не затем, чтоб лишний грош,
по Москве, как коробейник,
песни сельские несешь.
Песня тянет и туманит,
потому что между строк
там и ленточка и пряник,
тут и глиняный свисток.
Песню петь-то надо с толком,
потому что между строк
и немецкие осколки,
и блиндажный огонек.
Там и выдумка и были,
жизнь как есть - ни дать, ни взять.
Песни те, что не купили,
будем даром раздавать.
Краснощекий, белолицый,
приходи ко мне домой,
шумный враг ночных милиций,
брат милиции дневной.
Приходи ко мне сегодня
чуть, с устаточку, хмелен:
посмеемся - я ж охотник,
и поплачем - ты ж силен.
Ну-ка вместе вспомним, братцы,
отрешась от важных дел,
как любил он похваляться,
как он каяться умел.
О тебе, о неушедшем,-
не смогу себе простить!-
я во времени прошедшем
вздумал вдруг заговорить.
Видно, черт меня попутал,
ввел в дурацкую игру.
Это вроде б не к добру-то,
впрочем, нынче все к добру.
Ты меня, дружок хороший,
за обмолвку извини.
И сегодня же, Алеша,
или завтра позвони...
ПОЭТЫ
Я не о тех золотоглавых
певцах отеческой земли,
что пили всласть из чаши славы
и в антологии вошли.
И не о тех полузаметных
свидетелях прошедших лет,
что все же на листах газетных
оставили свой слабый след.
Хочу сказать, хотя бы сжато,
о тех, что, тщанью вопреки,
так и ушли, не напечатав
одной-единственной строки.
В поселках и на полустанках
они - средь шумной толчеи -
писали на служебных бланках
стихотворения свои.
Над ученической тетрадкой,
в желанье славы и добра,
вздыхая горестно и сладко,
они сидели до утра.
Неясных замыслов величье
их души собственные жгло,
но сквозь затор косноязычья
пробиться к людям не могло.
Поэмы, сложенные в спешке,
читали с пафосом они
под полускрытые усмешки
их сослуживцев и родни.
Ах, сколько их прошло по свету
от тех до нынешних времен,
таких неузнанных поэтов
и нерасслышанных имен!
Всех бедных братьев, что к потомкам
не проложили торный путь,
считаю долгом пусть негромко,
но благодарно помянуть.
Ведь музы Пушкина1 и Блока2,
найдя подвал или чердак,
их посещали ненароком,
к ним забегали просто так.
Их лбов таинственно касались,
дарили две минуты им
и, улыбнувшись, возвращались
назад, к властителям своим.
ВЫ НЕ ИСЧЕЗЛИ
Внезапно кончив путь короткий
(винить за это их нельзя),
с земли уходят одногодки:
полузнакомые, друзья.
И я на грустной той дороге,
судьбу предчувствуя свою,
подписываю некрологи,
у гроба красного стою.
И, как ведется, по старинке,
когда за окнами темно,
справляя шумные поминки,
пью вместе с вдовами вино.
Но в окруженье слез и шума,
средь тех, кто жадно хочет жить,
мне не уйти от гордой думы,
ничем ее не заглушить.
Вы не исчезли, словно тени,
и не истаяли, как дым,
все рядовые поколенья,
что называю я своим.
Вы пронеслись объединенно,
оставив длинный светлый след,-
боюсь красот!- как миллионы
мобилизованных комет.
Но восхваления такие
чужды и вовсе не нужны
начальникам цехов России,
политработникам страны.
Не прививалось преклоненье,
всегда претил кадильный дым
тебе, большое поколенье,
к какому мы принадлежим.
В скрижали родины Советов
врубило, как зубилом, ты
свой идеал, свои приметы,
свои духовные черты.
И их не только наши дети,
а люди разных стран земли
уже почти по всей планете,
как в половодье, понесли.
* * *
Приезжают в столицу
смиренно и бойко
молодые Есенины
в красных ковбойках.
Поглядите,
оставив предвзятые толки,
как по-детски подрезаны
наглые челки.
Разверните,
хотя б просто так,
для порядка,
их измятые в дальней дороге
тетрадки.
Там
на фоне безвкусицы и дребедени
ослепляющий образ
блеснет на мгновенье.
Там
среди неумелой мороки
вдруг возникнут
почти гениальные строки.
...Пусть придет к ним
потом, через годы, по праву
золотого Есенина
звонкая слава.
- Дай лишь бог,- говорю я,
идя стороною,-
чтобы им
(извините меня за отсталость)
не такою она доставалась ценою,
не такою ценою она доставалась.
НИКО ПИРОСМАНИ
У меня башка в тумане,-
оторвавшись от чернил,
вашу книгу, Пиросмани,
в книготорге я купил.
И ничуть не по эстетству,
а как жизни идеал,
помесь мудрости и детства
на обложке увидал.
И меня пленили странно -
я певец других времен -
два грузина у духана,
кучер, дышло, фаэтон.
Ты, художник, черной сажей,
от которой сам темнел,
Петербурга вернисажи
богатырски одолел.
Та актерка Маргарита,
непутевая жена,
кистью щедрою открыта,
всенародно прощена.
И красавица другая,
полутомная на вид,
словно бы изнемогая,
на бочку своем лежит.
В черном лифе и рубашке,
столь прекрасная на взгляд,
а над ней порхают пташки,
розы в воздухе стоят.
С человечностью страданий
молча смотрят в этот день
раннеутренние лани
и подраненный олень.
Вы народны в каждом жесте
и сильнее всех иных.
Эти вывески на жести
стоят выставок больших.
У меня теперь сберкнижка -
я бы выдал вам заем.
Слишком поздно, поздно слишком
мы друг друга узнаем.
* * *
Мальчики, пришедшие в апреле
в шумный мир журналов и газет,
здорово мы все же постарели
за каких-то три десятка лет.
Где оно, прекрасное волненье,
острое, как потаенный нож,
в день, когда свое стихотворенье
ты теперь в редакцию несешь?
Ах, куда там! Мы ведь нынче сами,
важно въехав в загородный дом,
стали вроде бы учителями
и советы мальчикам даем.
От меня дорожкою зеленой,
источая ненависть и свет,
каждый день уходит вознесенный
или уничтоженный поэт.
Он ушел, а мне не стало лучше.
На столе - раскрытая тетрадь.
Кто придет и кто меня научит,
как мне жить и как стихи писать?
* * *
Иные люди с умным чванством,
от высоты навеселе,
считают чуть ли не мещанством
мою привязанность к земле.
Но погоди, научный автор,
ученый юноша, постой!
Я уважаю космонавтов
ничуть не меньше, чем другой.
Я им обоим благодарен,
пред ними кепку снять готов.
Пусть вечно славится Гагарин
и вечно славится Титов!
Пусть в неизвестности державной,
умнее бога самого,
свой труд ведет конструктор Главный
и все помощники его.
Я б сам по заданной программе,
хотя мой шанс ничтожно мал,
в ту беспредельность, что над нами,
с восторгом юности слетал.
Но у меня желанья нету,
нет нетерпенья, так сказать,
всю эту старую планету
на астероиды менять.
От этих сосен и акаций,
из этой вьюги и жары
я не хочу переселяться
в иные, чуждые миры.
Не оттого, что в наших кружках
нет слез тщеты и нищеты
и сами прыгают галушки
во все разинутые рты.
Не потому, чтоб здесь спокойно
жизнь человечества текла:
потерян счет боям и войнам
и нет трагедиям числа.
Терпенье нужно, и геройство,
и даже гибель, может быть,
чтоб всей земли переустройство,
как подобает, завершить.
И все же мне родней и ближе
загадок Марса и Луны
судьба Рязани и Парижа
и той испанской стороны.
КАМЕРНАЯ ПОЛЕМИКА
Одна младая поэтесса,
живя в достатке и красе,
недавно одарила прессу
полустишком-полуэссе.
Она отчасти по привычке
и так как критика велит
через окно из электрички
глядела на наружный быт.
И углядела у обочин
(мелькают стекла и рябят),
что женщины путей рабочих
вдоль рельсов утром хлеб едят.
И перед ними - случай редкий,-
всем представленьям вопреки,
не ресторанные салфетки,
а из холстины узелки.
Они одеты небогато,
но все ж смеются и смешат,
И в глине острые лопаты
средь ихних завтраков торчат.
И поэтесса та недаром
чутьем каким-то городским
среди случайных гонораров
вдруг позавидовала им.
Ей отчего-то захотелось
из жизни чуть не взаперти,
вдруг проявив большую смелость,
на ближней станции сойти
и кушать мирно и безвестно -
почетна маленькая роль!-
не шашлыки, а хлеб тот честный
и крупно молотую соль.
...А я бочком и виновато
и спотыкаясь на ходу
сквозь эти женские лопаты,
как сквозь шпицрутены, иду.
* * *
...И в ресторации Дмитраки
Шампанским устриц запивать.
Кто - ресторацией Дмитраки,
кто - тем, как беспорочно жил,
а я умом своей собаки
давно похвастаться решил.
Да все чего-то не хватало:
то приглашают на лото,
то денег много или мало,
то настроение не то.
Ей ни отличий, ни медалей
за прародителей, за стать
еще пока не выдавали,
да и не будут выдавать.
Как мне ни грустно и ни тяжко,
но я, однако, не совру,
что не дворянка, а дворняжка
мне по душе и ко двору.
Как место дружеской попойки
и зал спортивный для игры
ей все окрестные помойки
и все недальние дворы.
Нет, я ничуть не возражаю
и никогда не возражал,
что кровь ее не голубая,
хоть лично сам не проверял.
Но для меня совсем не ново,
что в острой серости своей
она не любит голубого -
ни голубиц, ни голубей.
И даже день назад впервые
пижону - он не храбрым был
порвала брюки голубые.
И я за это уплатил.
Потом в саду непротивленья,
как мой учитель Лев Толстой,
ее за это преступленье
кормил копченой колбасой.
СОСЕД
Здравствуй, давний мой приятель,
гражданин преклонных лет,
неприметный обыватель,
поселковый мой сосед.
Захожу я без оглядки
в твой дощатый малый дои.
Я люблю четыре грядки
и рябину под окном.
Это все, весьма умело,
не спеша поставил ты
для житейской пользы дела
и еще для красоты.
Пусть тебя за то ругают,
перестроиться веля,
что твоя не пропадает,
а шевелится земля.
Мы-то знаем, между нами,
что вернулся ты домой
не с чинами-орденами,
а с медалью боевой.
И она весьма охотно,
сохраняя бравый вид,
вместе с грамотой почетной
в дальнем ящике лежит.
Персонаж для щелкоперов,
Мосэстрады анекдот,
жизни главная опора,
человечества оплот.
Я, об этом забывая,
не стесняюсь повторить,
что и сам я сбываю
и еще настроен быть.
Не ваятель, не стяжатель,
не какой-то сукин сын -
мой приятель, обыватель,
непременный гражданин.
В ЗАЩИТУ ДОМИНО
В газете каждой их ругают
весьма умело и умно,
тех человеков, что играют,
придя с работы, в домино.
А я люблю с хорошей злостью
в июньском садике, в углу,
стучать той самой черной костью
по деревянному столу.
А мне к лицу и вроде впору
в кругу умнейших простаков
игра матросов, и шахтеров,
и пенсионных стариков.
Я к ним, рассержен и обижен,
иду от прозы и стиха
и в этом, право же, не вижу
самомалейшего греха.
Конечно, все культурней стали,
но населяют каждый дом
не только Котовы и Тали,
не все Ботвинники притом.
За агитацию - спасибо!
Но ведь, мозгами шевеля,
не так-то просто сделать "рыбу"
или отрезать два "дупля".
ЭЛЕГИЧЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Вам не случалось ли влюбляться -
мне просто грустно, если нет,-
когда вам было чуть не двадцать,
а ей почти что сорок лет?
А если уж такое было,
ты ни за что не позабыл,
как торопясь она любила
и ты без памяти любил.
Когда же мы переставали
искать у них ответный взгляд,
они нас молча отпускали
без возвращения назад.
И вот вчера, угрюмо, сухо,
войдя в какой-то малый зал,
я безнадежную старуху
средь юных женщин увидал.
И вдруг, хоть это в давнем стиле,
средь суеты и красоты
меня, как громом, оглушили
полузабытые черты.
И к вам идя сквозь шум базарный,
как на угасшую зарю,
я наклоняюсь благодарно
и ничего не говорю,
лишь с наслаждением и мукой,
забыв печали и дела,
целую старческую руку,
что белой ручкою была.
ПОПЫТКА ЗАВЕЩАНИЯ
Т. С.
Когда умру, мои останки,
с печалью сдержанной, без слез,
похорони на полустанке
под сенью слабою берез.
Мне это так необходимо,
чтоб поздним вечером, тогда,
не останавливаясь, мимо
шли с ровным стуком поезда.
Ведь там лежать в земле глубокой
и одиноко и темно.
Лети, светясь неподалеку,
вагона дальнего окно.
Пусть этот отблеск жизни милой,
пускай щемящий проблеск тот
пройдет, мерцая, над могилой
и где-то дальше пропадет...
* * *
Бывать на кладбище столичном,
где только мрамор и гранит,-
официально и трагично,
и надо делать скорбный вид.
Молчат величественно тени,
а ты еще играешь роль,
как тот статист на главной сцене,
когда уже погиб король.
Там понимаешь оробело
полуничтожный жребий свой...
А вот совсем другое дело
в поселке нашем под Москвой.
Так повелось, что в общем духе
по воскресеньям утром тут,
одевшись тщательно, старухи
пешком на кладбище идут.
Они на чистеньком погосте
сидят меж холмиков земли,
как будто выпить чаю в гости
сюда по близости зашли.
Они здесь мраморов не ставят,
а - как живые средь живых -
рукой травиночки поправят,
как прядки доченек своих.
У них средь зелени и праха,
где все исчерпано до дна,
нет ни величия, ни страха,
а лишь естественность одна.
Они уходят без зазнайства
и по пути не прячут глаз,
как будто что-то по хозяйству
исправно сделали сейчас.
ПИОНЕРСКИЙ ГАЛСТУК
Повторяются заново
давние даты,
мне до пенсии
только рукою подать,
но сегодня,
как в детстве,
ушедшем куда-то,
в пионеры
меня
принимают опять.
Ты, девчурочка русская
в кофточке белой,
на украшенной сцене
в саду заводском
завязала на шее моей
неумело
галстук детства и мужества
красным узлом.
И теперь я обязан
на поприще чистом
не ссылаться на старость,
не охать,
не ныть -
быть все время,
до смертного полдня,
горнистом,
барабанщиком
нашего времени
быть.
Помню воздух,
насыщенный праздником света,
слышу туш оркестрантов,
уставших играть.
...Не могу я
доверие девочки этой
хоть едва обмануть,
хоть чуть-чуть осмеять.
Я ОТСЮДОВА УЙДУ...
Я на всю честную Русь
заявил, смелея,
что к врачам не обращусь,
если заболею.
Значит, сдуру я наврал
или это снится,
что и я сюда попал,
в тесную больницу?
Медицинская вода
и журнал "Здоровье".
И ночник, а не звезда
в самом изголовье.
Ни морей и ни степей,
никаких туманов,
и окно в стене моей
голо без обмана.
Я ж писал, больной с лица,
в голубой тетради
не для красного словца,
не для денег ради.
Бормочу в ночном бреду
фельдшерице Вале:
"Я отсюдова уйду,
зря меня поймали.
Укради мне - что за труд?!
ржавый ключ острожный".
Ежели поэты врут,
больше жить не можно.
ПОСТОЯНСТВО
Средь новых звезд на небосводе
и праздноблещущих утех
я, без сомненья, старомоден
и постоянен, как на грех.
Да мне и не к чему меняться,
не обязательно с утра
по телефону ухмыляться
над тем, что сделано вчера.
Кому - на смех, кому - на зависть,
я утверждать не побоюсь,
что в самом главном повторяюсь
и - бог поможет - повторюсь.
И даже муза дальних странствий,
дав мне простора своего,
не расшатала постоянство,
а лишь упрочила его.
НА РОДИНЕ НИКОЛАЯ ВАПЦАРОВА
Перо мое не в чернилах,
а в крови...
Николай Вапцаров
Собравшись как-то второпях,
не расспросивши никого,
мы у Вапцарова в гостях,
в квартире маленькой его.
Уже прошло немало лет,
давно то время вдалеке,
когда явился нам поэт
на нашем русском языке.
Как подобает, прибран дом
и свет в окошках золотой,
но что-то странное кругом,
какой-то воздух неживой.
На полке книги так стоят
от корешка до корешка,
как будто много дней подряд
не прикасалась к ним рука.
И непонятна нам сперва
еще особенность и та,
что не горят никак дрова,
не раскаляется плита.
Пол по-музейному блестит,
официальна тишина,
и, как на сцене, говорит
трагичным шепотом жена,
Я вроде суеверным стал,
чего на ум-то не придет?
Хозяин сильно запоздал,
домой, наверно, не придет.
Уж много лет тому назад
его прикончили враги.
По лестнице не прозвучат
его спешащие шаги.
Его напрасно не зови,
а лучше подойди к бюро:
оно и вправду все в крови,
его поэзии перо.
СВАДЬБА
Уместно теперь рассказать бы,
вернувшись с поездки домой,
как в маленьком городе свадьба
по утренней шла мостовой.
Рожденный средь местных талантов,
цветы укрепив на груди,
оркестрик из трех музыкантов
усердно шагал впереди.
И слушали люди с улыбкой,
как слушают милый обман,
печальную женскую скрипку
и воинский тот барабан.
По всем провожающим видно,
что тут, как положено быть,
поставлено дело солидно
и нечего вовсе таить.
Для храбрости выцедив кружку,
но все же приличен и тих,
вчерашним бедовым подружкам
украдкой мигает жених.
Уходит он в дали иные,
в семейный хорошенький рай.
Прощайте, балы и пивные,
вся жизнь холостая, прощай!
По общему честному мненью,
что лезет в лицо и белье,
невеста - одно загляденье.
Да поздно глядеть на нее!
Был праздник сердечка и сердца
отмечен и тем, что сполна
пронзительно-сладостным перцем
в тот день торговала страна.
Не зря ведь сегодня болгары,
хозяева этой земли,
в кошелках с воскресных базаров
один только перец несли.
Повсюду, как словно бы в сказке,
на стенах кирпичных подряд
одни только красные связки
венчального перца висят.
НА ВОКЗАЛЕ
Шумел снежок над позднею Москвой,
гудел народ, прощаясь на вокзале,
в тот час, когда в одежде боевой
мои друзья на север уезжали.
И было видно всем издалека,
как непривычно на плечах сидели
тулупчики, примятые слегка,
и длинные армейские шинели.
Но было видно каждому из нас
по сдержанным попыткам веселиться,
по лицам их,- запомним эти лица!-
по глубине глядящих прямо глаз,
да, было ясно всем стоящим тут,
что эти люди, выйдя из вагона,
неотвратимо, прямо, непреклонно
походкою истории пойдут.
Как хочется, как долго можно жить,
как ветер жизни тянет и тревожит!
Как снег валится!
Но никто не сможет,
ничто не сможет их остановить.
Ни тонкий свист смертельного снаряда,
ни злобный гул далеких батарей,
ни самая тяжелая преграда -
молчанье жен и слезы матерей.
Что ж делать, мать?
У нас давно ведется,
что вдаль глядят любимые сыны,
когда сердец невидимо коснется
рука патриотической войны.
В расстегнутом тулупчике примятом
твой младший сын, упрямо стиснув рот,
с путевкой своего военкомата,
как с пропуском, в бессмертие идет.
ВОЗВРАЩЕННАЯ РОДИНА
17 сентября 1939 года
части Красной Армии
вошли в город Луцк...
Я родился в уездном городке
и до сих пор с любовью вспоминаю
убогий домик, выстроенный с краю
проулка, выходившего к реке.
Мне голос детства памятен и слышен.
Хранятся смутно в памяти моей
гуденье липы и цветенье вишен,
торговцев крик и ржанье лошадей.
Мне помнятся вечерние затоны,
вельможные брюхатые паны,
сияющие крылья фаэтонов
и офицеров красные штаны.
Здесь я и рос. Под этим утлым кровом
я, спотыкаясь, начинал ходить,
здесь услыхал - впервые в жизни!- слово,
и здесь я научился говорить.
Так мог ли я, изъездивший полсвета,
за воду ту, что он давал мне пить,
за горький хлеб, за легкий лепет лета,
за первый день - хотя бы лишь за это -
тот городок уездный не любить?
Нет, я не знал беспечного покоя:
мне снилась ночью нищая страна,
бетонною, враждебною чертою,
прямым штыком и пулей разрывною
от сердца моего отделена.
Я думал о товарищах своих,
оставшихся влачить существованье
в местечках страха, в городках стенанья,
в домах тоски на улицах кривых.
Я вспоминал о детях воеводства,
где на полях один пырей возрос,
где хлеба - впроголодь, а горя - вдосталь
и вдоволь, вволю материнских слез.
Так как же мне, советскому поэту,
не славить вас, бойцы моей земли,
за жизни шум - хотя бы лишь за это!-
хотя б за то, что в желтых тучах света
в мой городок вы с песнею вошли?
* * *
Луну закрыли горестные тучи.
Без остановки лает пулемет.
На белый снег,
на этот снег скрипучий
сейчас красноармеец упадет.
Второй стоит.
Но, на обход надеясь,
оскалив волчью розовую пасть,
его в затылок бьет белогвардеец.
Нет, я не дам товарищу упасть.
Нет, я не дам.
Забыв о расстоянье,
кричу в упор, хоть это крик пустой,
всей кровью жизни,
всем своим дыханьем:
"Стой, время, стой!"
Я так кричу, объятый вдохновеньем,
что эхо возвращается с высот
и время неохотно, с удивленьем,
тысячелетний тормозит полет.
И сразу же, послушные приказу,
звезда не блещет, птица не летит,
и ветер жизни остановлен сразу,
и ветер смерти рядом с ним стоит.
И вот уже, по манию, заснули
орудия, заставы и войска.
Недвижно стынет разрывная пуля,
не долетев до близкого виска.
Тогда герои памятником встанут,
забронзовеют брови их и рты,
и каменными постепенно станут
товарищей знакомые черты.
Один стоит,
зажатый смертным кругом
(рука разбита, окровавлен рот),
штыком и грудью защищая друга,
всей силой шага двигаясь вперед.
Лежит другой,
не покорясь зловещей
своей кончине в логове врагов,
пытаясь приподняться, хоть и хлещет
из круглой раны бронзовая кровь...
Пусть служит им покамест пьедесталом
не дивный мрамор давней старины -
все это поле,
выложенное талым,
примятым снегом пасмурной страны.
Когда ж домой воротятся солдаты,
и на земле восторжествует труд,
и поле битвы станет полем жатвы,
и слезы горя матери утрут,-
пусть женщины, печальны и просты,
к ним, накануне праздников, приносят
шумящие пшеничные колосья
и красные июльские цветы.
1 ЯНВАРЯ 1941 ГОДА
Так повелось, что в серебре метели,
в глухой тиши декабрьских вечеров,
оставив лес, идут степенно ели
к далеким окнам шумных городов.
И, веселясь, торгуют горожане
для украшенья жительниц лесных
базарных нитей тонкое сиянье
и грубый блеск игрушек расписных.
Откроем дверь: пусть в комнаты сегодня
в своих расшитых валенках войдет,
осыпан хвоей елки новогодней,
звеня шарами, сорок первый год.
Мы все готовы к долгожданной встрече:
в торжественной минутной тишине
покоем дышат пламенные печи,
в ладонях елок пламенеют свечи,
и пляшет пламень в искристом вине.
В преддверье сорок первого, вначале
мы оценить прошедшее должны.
Мои товарищи сороковой встречали
не за столом, не в освещенном зале -
в жестоком дыме северной войны.
Стихали орудийные раскаты,
и слушал затемненный Ленинград,
как чокались гранаты о гранату,
штыки о штык, приклады о приклад.
Мы не забудем и не забывали,
что батальоны наши наступали,
неудержимо двигаясь вперед,
как наступает легкий час рассвета,
как после вьюги наступает лето,
как наступает сорок первый год.
Прославлен день тот самым громким словом,
когда, разбив тюремные оковы,
к нам сыновья Прибалтики пришли.
Мы рядом шли на празднестве осеннем,
и я увидел в этом единенье
прообраз единения земли.
Еще за то добром помянем старый,
что он засыпал длинные амбары
шумящим хлебом осени своей
и отковал своей рукою спорой
для красной авиации - моторы,
орудия - для красных батарей.
Мы ждем гостей - пожалуйте учиться!
Но если ночью воющая птица
с подарком прилетит пороховым -
сотрем врага. И это так же верно,
как то, что мы вступили в сорок первый
и предыдущий был сороковым.
1941
ПАРЕНЕК
Рос мальчишка, от других отмечен
только тем, что волосы мальца
вились так, как вьются в тихий вечер
ласточки у старого крыльца.
Рос парнишка, видный да кудрявый,
окруженный ветками берез;
всей деревни молодость и слава -
золотая ярмарка волос.
Девушки на улице смеются,
увидав любимца своего,
что вокруг него подруги вьются,
вьются, словно волосы его.
Ах, такие волосы густые,
что невольно тянется рука
накрутить на пальчики пустые
золотые кольца паренька.
За спиной деревня остается,-
юноша уходит на войну.
Вьется волос, длинный волос вьется,
как дорога в дальнюю страну.
Паренька соседки вспоминают
в день, когда, рожденная из тьмы,
вдоль деревни вьюга навевает
белые морозные холмы.
С орденом кремлевским воротился
юноша из армии домой.
Знать, напрасно черный ворон вился
над его кудрявой головой.
Обнимает мать большого сына,
и невеста смотрит на него...
Ты развейся, женская кручина,
завивайтесь, волосы его!
ПЕЙЗАЖ
Сегодня в утреннюю пору,
когда обычно даль темна,
я отодвинул набок штору
и молча замер у окна.
Небес сияющая сила
без суеты и без труда
сосняк и ельник просквозила,
да так, как будто навсегда.
Мне - как награда без привычки -
вся освещенная земля
и дробный стрекот электрички,
как шов, сшивающий поля.
Я плотью чувствую и слышу,
что с этим зимним утром слит,
и жизнь моя, как снег на крыше,
в спокойном золоте блестит.
Еще покроют небо тучи,
еще во двор заглянет зло.
Но все-таки насколько лучше,
когда за окнами светло!
Дата публикации: 30.09.2010, Прочитано: 15131 раз |