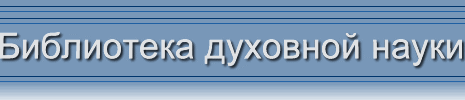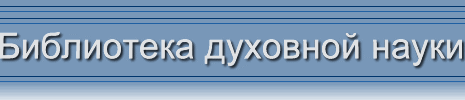Княжнин Яков Борисович (1742-1791) Бой стихотворцев
Эпическая поэма
(Отрывки)
ПЕСНЬ ПЕРВАЯ
Пою сражение героев я бумажных,
Книгопродавцев брань, наборщиков отважных,
Которые за честь им авторов драгих
Не пощадили зуб, ушей, носов своих!
Сокройтесь все теперь Гекторы, Ахиллесы,
Помпеи, Цезари, военные повесы!
Се муза возгласит в концы вселенной всей
От Невских берегов до Старой Руссы сей,
Где Волховь грязная среди болот крутится
И где нечистоте ее Нептун дивится.
Снимайте шапки вы, мохнаты мужики,
Внемли мне, молодость, внимайте, старики:
Уж Ломоносов здесь, меж облаков летая
И яры молнии с росой упоевая {*},
{* Стих Ломоносова "Упейся, молния, росою"
вызывал насмешки современников и
поэтов последующих поколений.}
Нас чрезъестественной мог высотой дивить,
Но сей великий муж казался боле быть,
Когда, огромными он не шумя словами,
Украшен простоты естественной дарами,
Сердца в нас восхитя счастливейшим стихом,
К местам тем возносил он быстрым нас умом,
Велики души где, умы, его подобны,
Короны Лавровы себе сплетать удобны, -
На геликонский верх, где он пред нами стал,
Героев прославлял, тлен смертности попрал.
И Сумароков здесь, в любовной млея неге,
Довольно показал, что здешни хлады, снеги
Не могут воспретить нам страстию пылать:
Здесь можно жарку быть, в Париже замерзать.
Но сей любови друг в позорищах, плачевных
От смертной горести, от вздохов повседневных,
Среди нежнейших чувств, прекраснейших стихов,
Которых похвалить недостает мне слов,
В нередких "ах", увы, покоился дремотой
И зрителей своих отягощал зевотой {*}.
{* Позорища - трагедии. Княжнин указывает
на то, что чувства в сумароковских
трагедиях иной раз выражены однообразно.
Прости мне, Аполлон, что я могу дерзать
То, что все думают, в стихах своих вмещать.
Что двух твоих детей, возлюбленных тобою,
Пороки зреть могу, прельщенный их красою.
Ты должен их виной всему тому считать {*}:
{* Т. е. достоинства сочинений Ломоносова и
Сумарокова позволили современникам увидеть
отдельные недостатки их произведений.}
Я, знав, что хорошо, могу, что худо, знать.
Они, мя осветив своих стихов лучами,
Открыли светом мне глаза над теми тьмами,
Которы их красы не могут помрачить:
Во темной ночи свет прекраснее блестит.
Уж громкий лирик наш и Сумароков нежный,
Взошедший на Парнас, от злобы, неизбежной
Великим людям всем, не зрят себе препон.
Уж там их имена, где славы вечной трон.
И лавки книжные, умы их в свет пущая,
Сердца всех человек под власть их съединяя,
Внушали зависть тем, что, славу полюбя,
Искали большу честь, честь малую губя!
Подобны Псу тому, о чем Езоп вещает,
Который мяса часть из жадна рта пущает,
Чтоб большую достать, в воде котору зрит, -
Алкают сочинять, и кровь в них вся кипит.
О муза! Нареки их, гордых, именами,
Что, не стыдившийся быть названы страмдами,
Для славы вечныя пошли вослед скотин:
Учитель Лукина {*}, фон Визин, сам Лукин,
{* Организатор и глава кружка
статс-секретарь императрицы И. П. Елагин.}
Козловский разноглаз, Елчанин - сей друг верный
И в дружбе человек и в враках беспримерный,
Котора наконец Лукин письмом почтил.
Но чести сей еще он недостоин был,
Когда учитель благ {*}, - собравши их всех вместе,
{* "Благий учитель мой" - выражение самого
Елагина; своим "учителем" печатно именовал
Елагина Лукин.}
Вещал к ним так: "На сем умрем, о другb, месте!"
Тут мудрая глава, сраженная бедой,
Не могши продолжать, толкала в грудь брадой"
И зависть бледная, усилившись, синела,
Которая в устах его всегда сидела;
Огнь ярости в глазах, как молния, блистал.
Пред жаром Визин сим зрак быстрый потерял, -
С тех пор он помощи себе лорнета просит,
С тех пор всегда Лукин власы как уголь носит,
Увы! - и пудрить их не хочет никогда,
Чтоб память грусти той оставить навсегда.
Кто первый изо всех осмелился желати
Причину горести учители познати?
Ты, хвальный юноша... {*}
{* В следующих 11 стихах (сохранившихся
неполностью) иронически характеризуется
"хвальный гоноша" Лукин, которому "дар
свыше дан" сочинять длинные предисловия
и портить "чужие комедии. "Учителя зря гнев",
Лукин долго собирается с духом, чтобы
обратиться к "сообществу" с речью.}
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...В затылке почесав, чтоб вызвать мысль свою,
Разинул прежде рот и начал речь сию:
"Учителя глаза вы видите днесь слезны,
Соотчичи {*} мои, друзья мои любезны.
{* Слово г<оспо>д<и>на Лукина из Предисловия.}
Фон Визин, острый дух, российский Боало,
И ты, которого "Шоесеемназааяо
Сообщество сие, меж нами учрежденно,
Елчанин, коего зрю чувство сокровенно,
И ты, которому я имя после дам,
Козловский, по твоим, мой друг, смотря трудам... {*}
{* Здесь содержится часть речи Лукина,
который обращает внимание сотоварищей
на "склоненную на плечи" "в сей прелютейший
час" голову "учителя" и хочет "вопрошати"
его о причинах горести.}
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .что может сокрушати
Великий дух его, наполненный доброт".
Сим тронуты кричат: "Несносен нам живот!
Спроси учителя, что грудь его терзает?"
Тогда он щепетко {*} к владыке подступает,
{* Слово г<осно>д<и>на Лукина.}
Подобен конику, что, сделавши, столяр
Выносит продавать ребяткам на базар.
Уже к учителю свои простер он персты,
Уже готовые уста были отверсты, -
Но взор наставника потуплен и смущен,
Сим видом дорогим не мог быть возбужден.
Три раза Лукина язык в губах толкался
И столько ж раз к его гортани прилеплялся.
Молчанье страшное с ужасной тишиной
Равняли те места с дремучей той страной,
Где тени человек умерших обитают.
Как мухи вдруг туда журчащи прилетают!
О твари малые! вы хр_а_брей Лукина.
Учителю на нос из них летит одна
И прочи по щекам ослабшим в ряд садятся
И щекотить лице дебело не страшатся.
Их жало ощутив, преславный сей мудрец
Изгнал весь страх своим движеньем из сердец;
Собрался смыслами, повсюда оглянулся,
Поднявши руки вверх, вздохнул и потянулся.
"Вы, без сумнения, - к собранью он вещал, -
Дивитесь, что я слов начатых не скончал,
Но коль познали б вы вину моей печали,
Смятенью моему дивиться б вы престали...
Но не страшитеся, любезные друзья,
Не подлости какой алчба разит меня,
Мой дух известен вам... Я славы лишь желаю!
О слава! для тебя я в трудный путь ступаю,
Чрез множество стремнин и бед хочу прейти...
Не устрашитесь ли за мной вы вслед идти?
Все Сумарокова с восторгом похваляют,
Чтят Ломоносова... Вот чем меня терзают.
Но к славе не один есть твердым смертным путь,
И может быть, и нас венцы Лавровы ждут.
Дерзнем насмешников на свист и хохотанье,
Угрюмых строгих мы судей презрев ворчанье,
Благопристойности завесу разорвем,
В природе гнусно что, то на театр взведем".
Сказав сие, тряхнул главой он с важным взором
В знак неминуема писанья всем собором.
Единогласно все собрание кричит:
"Мы станем сочинять, хоть гром нас поразит!"
От звука гласа их бумаг трепещут дести,
Чернил река течет, в путь идут перья, чести.
Конец первой песни
ПЕСНЬ ВТОРАЯ
Внизу парнасских гор, высоких и прекрасных,
Жилище для писцов соделано несчастных,
Которых быстр Пегас своим копытом бьет,
Из дерзких в глупости рук удило он рвет
И, сбросивши с себя, в болоты низвергает,
Где в вечной грязи сбор лягушек обитает,
Там слышен только лишь сих гадин скверный крик,
На что ответствует писцов гнуснейший рык.
Там Тредьяковский, сей поэзии любитель,
Для рифмы разума, рассудка истребитель,
На куче книг лежа, есть просит, пить в стихах,
Пред ним чудовище о многих головах,
Которы Аполлон сатирами считает {*},
{* Т. е. считает сатирами на подлинное искусство.}
Но тщетно погубить урода он желает:
Где была голова, там сто голов растет,
Не кровь - чернил поток в груди его течет.
Оно, сто толстых книг держа сухой рукою,
Жмет Тредьяковского нос колкою ногою
И нудит преложить во рифмы горы книг
И всю вселенную вместить в единый стих.
Чудовище сие есть та писать Охота {*},
{* Охота писать, Алчба писать, Охота
сочинять - богиня Графомания.}
Коей рождается в читателях зевота,
Отличная от той, что Аполлон дает,
Которая на верх Парнаса нас ведет,
Котора, в душу вшед, луч ясный возжигает
И человеков ум во мраке просвещает.
Прекрасна сколь сия, толико та гнусна:
Одна Мольерова, другая Лукина.
Богиня Лукина читала "Аргениду"
И вымышляла, как отмстить за ту обиду,
Что презирает всяк любезну книгу ей;
Тогда чудовище с поспешностью пред ней,
Составленно из глаз, очей и уст, явилось:
Оно вещает все, что в свете приключилось.
Чудовище сие мы называем Весть,
Что проповедует страм смертных или честь.
Лишь черную она Алчбу писать узрела,
Во все свои уста тотчас и зашумела:
"Доколь, Алчба писать, ты будешь не радеть
И большего себе во жертву не хотеть?
Иль только в свете есть один лишь Тредьяковский?
Фон Визин есть, Лукин, Елчанинов, Козловский".
Сие сказавши, вдруг отправилася в путь,
Как вихрь, который мог лишь прах с земли тронуть, -
И тотчас к небесам, крутя, песок возвился.
В Охоте сочинять дух радостью взмутился,
И чище протекать чернилы стали в ней.
Единым махом лишь она руки своей
Все Тредьяковского стихи к себе сбирает,
"Кто хочет мне из вас служити?" - вопрошает.
Готовы все были, все ревностью горят
До последней стопы ей в жертву потерять.
Тогда, твердейшего избравши гексамедра,
Что вырыла она из "Аргениды" недра,
Наместо шишака спондей ему дала
И панцирь из трохей и ямбов соплела,
В десницу не копье - перо свое вложила,
Которо влагою в устах своих мочила,
И, препоясавши чернилицу к бедрам,
Сказала: "Ты готов за мой отмстити страм.
Взлезь на осла, ступай на разум ополчися,
Сразившись с ним, сюда с победой возвратися.
Есть новые писцы, готовы мне служить;
Не хочет разума никто из них почтить,
Но, видючи, что все еще его днесь любят,
Во праздности драги часы от страха губят.
Пером, которое в руке твоей теперь,
Стыд отжени от них и наглость их уверь.
Скажи, что вслед тебе теку к их ободренью,
Конец соделаю я нашему терпенью".
Из Геликонских блат геройский стих ползет,
Ленивого осла пером он жалит, жмет,
О чудеса чудес! Скот зев свой разевает
И не стихами хоть, но прозою болтает,
Подобно как кони, о Ахиллес, твои,
Чтоб бедство возвестить, отверзли рты свои.
Но не печаль осел - успехи предвещает,
По имени творцов он новых называет {*}:
{* Далее перечисляются переводы-переделки
членов кружка - Елагина, Фонвизина, Ельчанинова,
Козловского и чрезвычайно плодовитого Лукина.}
"Тем будет "Жан де Франс", изданный в свет, смешить,
Тот "Корионом" честь "Сиднея" уменьшит,
"Шотландку" в русскую тот облачив одежду,
Велику о себе он всем подаст надежду.
Козловский в малыя комедии даст знать,
Что он друзей своих не меньше может врать.
Но всех сих превзойдет один Лукин блаженный:
Сей скорописный муж, на свет черкать рожденный,
Толико томов вдруг на свет произведет,
Что не осел, но слон под игом тем падет.
Уверен о своем великом дарованьи,
Не станет мыслить он, не будет он в мараньи
Своих негодностей златые дни губить:
Что выдаст он на свет, коль гнусное чернить?"
Во время мудрых слов прорцающей скотины
Все вкруг живущие вблизи там животины,
С благоговением бараны и козлы,
И куры, петухи почтение несли.
Продолжение будет впредь {*}.
Весна 1765 (?)
{* Продолжение, по-видимому, написано" не было, ибо "елагинский кружок"
вскоре распался.}
ПРИМЕЧАНИЯ
Сын провинциального чиновника Яков Борисович Княжнин с 1750 г. учился
в гимназии при Академии наук. В 1755 г. начал службу в Юстиц-коллегии
лифляндских и эстлянских дел в качестве коллегии юнкера, в 1757 г. получил
должность переводчика в Канцелярии от строений, а в 1762 г. перешел на
военную службу в "немецкие секретари" к гетману К. Г. Разумовскому, который
одновременно был президентом Академии наук, камергером двора, командовал
Измайловским полком и т. д. В 1764-1772 гг. Княжнин служил в должности "за
секретаря при дежурных генерал-адъютантах". Литературная деятельность
Княжнина началась рано. По некоторым данным, первое его стихотворение
опубликовано в 1755 г. без имени автора. Как указывал Н. И. Новиков, Княжнин
до 1771 г. "много писал весьма изрядных стихотворений, од, элегий и тому
подобного", однако все они доныне не установлены. В 1763 г. была поставлена
мелодрама Княжнина "Орфей" (опубликована в 1781 г.) с музыкой Торелли; в
начала 1790-х годов музыку к "Орфею" сочинил выдающийся композитор Е. И.
Фомин, и в таком виде мелодрама ставится до нашего времени. По-видимому, к
весне 1765 г. относится написание "Боя стихотворцев", первой шуточной
литературно-полемической поэмы в России (впервые опубликована в 1971 г.). В
1767 г. (по другим данным - в 1769) была поставлена первая трагедия Княжнина
- "Дидона" {Более полные сведения о биографии и творчестве Княжнина будут
приведены во второй части хрестоматии.}
Дата публикации: 04.10.2010, Прочитано: 4720 раз |