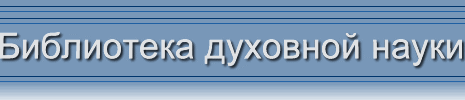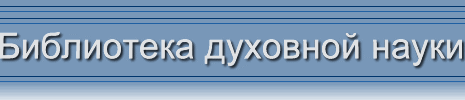Радашкевич Александр Павлович (род. 1950) Оный день
ШПАЛЕРА
Первая книга
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АВТОРА
Но я зерно иной земли. Туда приблудшую
армаду не изумит, что в гавани сверкает,
встречая, алая толпа из королей, из королев, что,
в волнах мантий подлетая, пажи, себя самих
собой смутив, упёрли око в хвостик горностая.
Земля заставлена дворцами и каждый парком
заключён, где всякий принят королями
и королевами с двором. И всякий после, охмелён,
отпущен в дол, где ветры носят взятый взор,
где греет плечи рыхлый ствол - пока плывущая рука
перстов не пустит по кудрям, по векам тонким, по векам.
И ты увидел: всё не зря, ни в чём не зрев обмана.
Туда заблудшая армада легла в коралловом лесу...
Того и я не обману, кого нетрудно разуверить.
* * *
Если в край посмотришь неба и увидишь шаткий купол,
и брезент его набухший опускается всё ниже, -
про безмерность вечной сини вспомни в это же мгновенье:
там, над бурями, пылает каждый день у Бога солнце,
и летят необозримо горы сквозь преображенье, -
если край поднимешь неба.
Если день смертельно бледный пылью ляжет на ресницы,
властен ты прогнать невнятность, зеркала соотражая:
вспомнишь встречи да прощанья, речи взоров, звон
любимый клятв напрасных и желанных,
губ туманнейшие блики и приливы гулких песен, -
если день, как этот, бледен.
Если вечер пуст и долог, безжеланный, одинокий,
ты прочтёшь большую книгу о цветении желаний, о лесах
и о дороге семизначных начертаний;
как молчали полубоги у руин погибших сказок,
положив вотще десницу на замшелый ствол колонны,
и бросали сердце в море те старинные мальчишки, -
если вечер слишком долог.
Только вспомни ты вначале, только знай,
что мир всё тот же:
ветер множит наши грёзы, а мгновенье - необъятно,
если в край посмотришь неба,
если день смертельно бледный, если вечер пуст и долог,
и вольны мы петь и плакать.
СКАЗ
В пушистых павловских куртинах
живёт прохладная лягушка,
на лире лап достойно каменеет
и, не мигая оком золотистым,
сливает дождь по лаковой спине;
найдя глухие заводи Славянки,
там побивает тьмами комаров.
Впивая запах сохлой тины,
в широких ранах колоннад
полдневным сном томится недвижимо.
И ночью всякой, в час один и тот же,
прошлёпав по аллеям и мостам,
следит, как проплывает в кронах дымных -
из Новой Сильвии на Красную долину -
хламидой окрылённый Мусагет.
Когда же зацветёт вода и помутнеет,
когда повеет медным сном листва,
последний раз прыжком последним
под солнцем оседлает камень лысый
и лопнет изумрудным пузырём.
БОГИ
Все боги живы ныне в нагорных странах или
во тьме нечеловеческих пустот.
Снимая жатвы спелых душ,
они не властны умереть. Над безднами
колышутся печальные их лики,
пугая стаи робких облаков
и ясность вод великих.
Века откатят и в пространный час
смолой кадилен, гарью теокалли,
цветами, кровью, плошками и воском
они бесстрастно запирают
ушей бездонные воронки
и после спят, и снятся после,
плывя туманами по мракам,
к земле своей лицом.
СТАРИК
Подбегает Нежданная сзади
закрывает глаза ладонями
но помедлишь узнать её вздрогнув
и пока облачают в одежды
одну за другой
пока завязывают сандалии
и день открывается снова
ты отрока у солнечной стены
сплетающего листья для гирлянды
берёшь в стеклянный взгляд
хоть на плечах качается
как бычий матовый пузырь
на палке голова
и шепчешь наконец ему
чтоб тут побыл до сумерек играя
пока луны студеный мёд
нечаянно пригубишь
из чаши темной или
не спеша.
* * *
Пусть бегущие добегут
и летящие
не сорвутся,
путешествующие
плававших
разыщут
и живые живое
допьют.
| |
| | Ну а мёртвые пусть не пеняют
на недужное наше
житьё
и с лопастых цветов
пусть снимают губами росу
у прозрачного дома,
где они непробудно
живут.
|
СЕРДЦЕ ЛЕСА
Один войду в густую ночь. Снег тает,
губ коснувшись, и новый дух из глубей влажных,
как конь - крадущегося зверя, ноздрями
вздрогнув, узнаю. Да, там в седой
и взору глаз живых заказанной засеке,
в ветвях запутавших, повисли стаи
звёзд, и корни-камни, сдохшие наруже
века веков тому назад, как связки щупалец
в обставшей глухо мгле, искрятся
первым снегом мира -
нетающим, немеркнущим, стеклянным.
Что теплота ему сих рук
отдёрнутых, что клик немой, что бег?
Ему - последний в сказке снегопад,
чей занавес плывёт сюда -
тишайший.
* * *
О голубь мой, товарищ сизый,
нахохленный, конец крадущийся принять
готовый тут - под сенью водосточно-
архангельской трубы из серебра.
Как дым, избитый непогодой, ты так
устал и прячешь в перья клюв. Морщины обступив
далёкой лужи, другие воду пьют
и грязь, толкуя о любви и корках.
Проходит дождь. Я слышу: покатился
уж по ступеням. Как же, друг,
тебя потом перешагнуть? Но вот
старуха с бормотанием уносит,
что было птицею. Нахохлилось,
что было мной, в своем углу теперь.
* * *
Зачем тогда, в венке из роз...
Стрела, отправленная вами,
проходит грудь. Вы то же
круженье отжили и проводили
горчайший дым, и видели свеченье
садов, парящих на звезду
последнюю; смущая люд
мерцающим горбом, как дети -
мудростью, носили
весомый сколок тех небес;
и прилепились к душе иной,
как к светлогривому Давиду -
Ионафан; и поселились
одни над пропастью, когда
другие грузно ногу опустили
на верный край; а после двадцати
в сокрытую огнями близь
воскликновенье отрочье послали:
Когда ещё я не пил слёз...
Барон, зачем тогда?..
Курсивом - строки А.А.Дельвига.
ДВЕ ПОПЫТКИ
I
Ты женщина для веера, для бала,
ты для любви, которая не до
мигрени: хватит ныне! Ты -
для зеркала, для взгляда через раму,
для менуэта с хулиганом и декольте;
для зала гулкого, чтоб перейти,
и для потери, чтоб переплыть на папиросе
порог тоски - опять устав, как вечно,
от надоевшей до изжоги тебе земли.
Ты - чтобы опоздать совсем,
когда, как никогда, нужна; прийти
к часам разлитых вин, мелодий,
скользящих прочь, сецессий дыма и
подпухших лилий. Ты женщина Бёрдслея,
готического стула и - чтения опального поэта
за завтраком... Не встанешь,
когда проносят мимо принца,
стуча котурнами (ботфортами то бишь),
четыре датских капитана.
II
Ты женщина старинная, родная -
и бровь, и рот, и хлад.
Неумолима ты. Я недоступен.
Две небыли - для друга друг, -
друг друга отлюбили с лет
заутренних, когда, как травы, руки
растут - до завтрашних, когда,
как травы, руки лягут
к тебе на руки, к себе на грудь.
Так просто: радость - не беспокоить.
Невозмутима ты. Я непробуден.
Тебя не видеть - грусть и месть
за встречи средний час, когда
в объятиях не топят, не спасают,
когда, как вёсла, брошенные руки.
И сушит день, и ночь корёжит,
и время отходит, двигая волны.
Нежнейшая из снежных ласк,
из бренных благ - теплейшая,
тебя не видеть - лет не снесть,
когда мелеют ранние друзья,
как реки, поившие нас поцелуем.
* * *
Когда не станет нас, за нами встанет право
на башню наших болей, на надмирность
в речениях, на возведение очей горе -
воззвавших, на забубённость и любови,
на бешенство, беспомощность, надменность -
на нас самих за нами встанет право.
Когда не станет нас, за вами встанет долг:
взойти на башню отболевших, до середины пусть;
твердить сверкнувшую строку, очами проблестеть -
заплывшими, и возлюбить усопшие любови
за бешенство, беспомощность, надменность -
за нас самих за вами встанет долг.
Когда не станет нас, когда не станет вас,
как светляки, жемчужными снегами пронизая
друг друга, вскружим у Отчих стоп.
МУМИЯ
Сегодня в зимнем доме Государей
от серости и тяжести небес
раздетая мумия вздрогнула зябко
и изменила выражение оскала
на горькое. Владельцы тел при этом,
шатнувшись, вышли вон из зала.
Сквозь две копилочные щели
она смотрела бывшими глазами,
едва от хруста, слава Богу,
удерживая кожаное сердце:
Нева тяжёлая у стен ещё недавно
ползёт, глотая мокрый снег...
Хранились вина в пирамиде -
иссохшие, хранились воры,
подкошенные шорохом песков;
на волнах бледной темноты
вставали сотни лет помины
в разлив её души... Не так теперь.
И взор её, густее смол, отлив
назад, оставил нас опять
на нас и маету, бродящую, озлобясь,
сегодня в зимнем доме Государей.
ФИЛАРМОНИЧЕСКИМ ЗАЛАМ
О, защити нас, белый зал! В твоих колоннах
мы будем живы до весны, хоть нас дожди прошили.
Нам бездны всласть. О бухте звоны в хрусталях.
Целуют сердце, брошенное вплавь, тугие глади.
О, защити, Большой, спаси нас, Малый,
в своей шкатулке млечно-шоколадной!
Мы собеседники убывших душ,
мы соглядатаи занебных лётов,
мы снедь пылания, триумфы грёз,
мы полубоги наших полураев, где плещет флагом
нам фебова хламида в час бескрайний.
Так защищай, Большой, спасай нас, Малый!
И будем живы до весны, пожалуй.
* * *
Мне не бывает скучно никогда,
как в юности - порой огромной,
но так же страшно иногда и больно.
Как жили славно: было ей не до
меня, когда разматывались дали
и близь цвела у рук. Я помню.
Не от того, что сумрак одинок,
мы умереть старались в марте.
Теперь тенями густо населён,
и время льётся плотной тканью,
разматывая взор часами,
и скуки страстной нет, чтоб воскрылить,
и рук моих теперь не выпускает
пора моя. А мне не до неё.
Из цикла "КРУГ РАЗЛУЧЕНИЯ"
1. ГОРОД
Не принимает меня в окна,
не глотает зёвами арок и не
кружит каменным штопором лестниц
по карманам подъездов - молчит
город, в котором пунцовые свечи
сквозь вино разгорались, как кровь, и часы
проводили ущельями музыки
к озарённым подземным озёрам.
Бездомная моя улыбка
вчера осиротела здесь. Бьёт десять. Десять
раз короны вздрогнули в гробах
и ангел, полетав чуть-чуть,
вновь накололся на иглу
гранёную.
От Иоанновских ворот
по берегу брести и видеть: башни проросли
лазурными и белыми цветами,
и слушать плеск темнеющей Невы,
и - отлететь с моста к тебе
за лапками плаксивых чаек.
2. ЭТОТ ДЕНЬ
И этот день быть без тебя,
проволочась в назначенных теснинах,
как червь слепой. И этот день
неспешно пить густую боль,
креплёный мёд разлук. И этот день
хранит тебя, как камень - звук и дерево -
слезу в незримой глуби. И этот день
острей протекшего, когда стираю пыль
с запомнивших вещей. И этот день
о далях взора, павловской тропе,
о хрупкостях, виновности, зиме. И этот день
будь проклят! Так тебя люблю, как душу
прошлую и нежный прах земли. И этот день,
сгорев, тебя мне не отдаст, меня -
тебе и бросит в ночь, как в ров.
3. ЧТЕНИЕ (ДЕНИС ДАВЫДОВ)
С утра кружился редкий снег,
и старых тополей высокие шпалеры,
теряя золото, чуть колыхались,
как от великого дыханья,
а полы светлого плаща
в разлёте реяли, и мёрзли пальцы.
Я после сел за чай с Анакреоном
Под Доломаном и не скучал,
собратствуя в речах зачарных
усатых молодечеству и скорби
безусых дафнисов гвардейских,
одетых в элегическую холь.
Остыла чашка. Я им задарен:
хоть не было тебя в твоём углу
за чаем, но и меня не очень было,
когда он так скакал в угарный рай
допитых вин, усопшего гусарства,
где кивер зверски набекрень и
ментик с вихрями играет.
4. ЭЛЕГИЯ С БЕЛКОЙ
Я в парк вошёл и всё сошло. Я стал заряжен в тёмный ствол
аллеи, целившей в забвенье и незабвенность. Траур хвои
и пятна смертной позолоты, да небо стёртое и дождь
кренящий. Легковерен - разлётом павловского края,
надумавшего нынче осень лишь для меня. Земля ли
в глазах? Разгладив щёки мха, хладящие, я вздрагиваю от
надлома пальцев бронзовых, от каменной слезы набрякшей
и мраморного взгляда в спину. Храм обретенью. Мавзолей
сообщникам классической утери. Кентавры, бьющие копытцем,
одни строптивы тут. В верхах повизгивает белка,
не отрывая глаз от глаз, запнувшихся на ласке. В кармане -
мир наград! - конфета... Кружась, спускается, но медлит
скакать в траве. Привстав, берёт в протянутые лапки
(как дама - шляпу в лотерее) и - отпружинивает в ели.
Высокий вал из блага. По воле беличьей. По замыслу Гонзаго,
кто молвил исподволь - разубранной натурой.
5.
Как странно, тёплый дан декабрь
тому, кто одинок. Как дерзко солнце
сегодня хлещет в лоб его - того,
кто одинок. Как взросло губы отдают
тому - не те. Как зло вино и полы звуки
бессонных лабиринтов, где зеркала
тому - из тупиков. И как равно
из дня порожнего вываливаться в день -
из гроба в гроб - тому, кто, знай,
ступает ломким льдом,
когда ладони выпростает в заметь -
два лотоса - тому, кто одинок.
6. ПРОСТАЯ ПЕСНЯ
И повелел: - Закрыть мой замок насмерть!
И гнёзда ласточек сколоть, и мост треклятый
поднять, и отпустить в луга моих коней,
и все часы унять, и сшить мне сорок
таких же платьев, и погреба и подземелья
скорей раскрыть, чтоб мгла, вино и стынь
колодец замка до краёв налили,
чтоб струи голосов и времени его не пере-
хлестнули - нет! - и чтоб очей никто от праха
не отнимал, и чтоб никто на ухо никому
не помянул тебя! тебя! тебя! И в ночь иль день,
когда воронка звёзд иль сини из плоти вытянет,
с семи сторон поджечь мой бренный замок,
чтобы погрёб неверными стенами.
7. ВЕЩИ
Разбирать наши вещи, словно шарить
в осколках, кровью срезы пятная; словно
нежить ребёнка, лицом прижимаясь. Разбирать
наши вещи, как кататься по полю, цветы
подминая, как снимать страшный бинт
с незатянутой раны. Это - полки романов,
обломившийся мостик в доживающем парке,
это - в палые листья врыться, теряясь.
Залетая в бестенье, колыхнуть наши звёзды.
Целовать наши вещи. Затекают колени.
ГЕОРГИЙ ИВАНОВ
I
Не в добрый час - к недобрым снам...
Гнетомы промедлением, душимы приближением,
в избытке смерти, в достатке боли
вы отговорили по-страшному просто -
больны и подмяты беспамятной славой
страны, где писали давно вы и вяло,
не отживя объятия отчаянья, не долетя
до вёсен вымирания...
А вещий так распев
заводит: не отвержи (ни Бог, ни родина, ни воля),
не отвержи мене (я прожил очень больно)
во время старости. А вы качались и
качались под солнцем эмигрантским
на кресте, и лишь те драгоценные
плечи ваше небо ещё подпирали.
II
В огнях полночи и предутра
вы - отплывавший на Цитеру
в густых шелках Ватто.
В руинных кручах гаваней Лоррена
вы - пивший праземли лобзание-дыханье
в глазах овец, сивилл и Аполлона,
при помавании сновиденных дерев.
А после вы - невиданный Назон,
из Рима злачного молящийся о Томах,
о грешных взглядах васильков, о варварах
на варварских сугробах...
Всех сборов последние -
кротче и строже: из простыни белой -
и в белые ночи, где Павловска тропы
у окон вагонных, а вьюга слепая
несётся Невою, проходит Фонтанкой,
клубится над Царским, и взоры в ней снова
минуют друг друга.
* * *
Отворяя нездешние письма:
ну, кому злая двоица - ветренность-
верность? Отрастает месяцем сердце,
чтоб зеркальные нити в дальних ваших
перстах пропели; чтобы ночи, скользя,
обтекали и канули где-то, обрываясь
в колодезный зоб, и качнулись чтоб травами строчки.
Ну, кому же уплывшие вёсла, сдвиг наивных бровей
на преставленность, на шоколадные
крошки, спящие тапочки, карточки мутные
(разве в них я?), розовый круг под бокалом
вина, несколько вздохов прерывистых в парке,
письма любимых, что учат пройти,
сдутые ногти с края стола?
ЧУЖБИННОЕ КЛАДБИЩЕ
I
В вечерний свет ноябрьского утра
по льдам скольжу неловко и кошу
на остеклённую неотмершую зелень,
пот окон и растерянные ноги вкось
снующих.
За поржавелою решёткой
разбухшие могилы. Что старше - коченеют
вдоль бурых стен. Всю ночь
вчера валило. Сегодня тает. Что делаем,
скажи, мы в этом мире ватном.
II
В день вешний под разливом облаков
сорвёмся с белками скользить
промеж могильных плит! Пускай
погост не тот, куда, стеня, изгой
придёт стрелять в широкий лоб
на холм, под коим мать лежит; не тот,
чтоб атлантиды облаков следить всерьёз
иль в неурочный час застать
здесь что-то, кроме мокрых бегунов
(за каждым - смерть трусцой), но места
нет живей. И поделом, мой вешний Бог,
саднит чужбина.
III
И в снежных сумраках шурша,
приветные я оплетал опять могилы
следами. Русская судьба,
без спроса, без толку, безмолвьем подарила.
Незатвержённые слова навырезала мне чужбина,
чтоб, в снежных сумраках шурша,
прозванья скошенных за веки плыли
от ломких глыб: его жена, их сын. Их снег
забил, вчитавшись до меня, до вас,
но вам они едва нужны ли.
Вас нет. И лучше: не одна душа,
свечой дрожа, тропу мне переплыла
по сумракам, снегами не шурша.
* * *
Грянет снег, оглушив белизной,
немотой, слепотою.
Грянет
снег, обжигая горло, друг
понурый,
но мы не готовы. Скроет
кровли. На плечи, на веки,
на
гребни и шпицы, жесты веток,
на
звук и такое, что проколет снежную
накипь вверх - но мы не достойны.
Грянет снег, наполняя уши
белым бредом, который не стает.
Всё же это теплее, чем знали, -
не скорее, чем лава,
чем надо, -
скроет благо, и мы у порога.
ПЕЙЗАЖ НА БЛЮДЦЕ
Всё сошло в месте этом над далями
вод,
где пароходы смолили, где смытые люди
к ним,
по-иному рисуясь, шли. И иначе в травах
тень
их детей дрожала. Ели сошли, как и те
немо выкипели облака. Да и место нарочное
над
водами всё миновало, коль и занятых нет
тканью тени его, кроме нас, кроме нас, слава Богу,
за коими зыблется всё вереница слепых пароходов,
экипажей и пеших господ, облака от кого не
канут
в тину далей; кто стоял тут и снова, и снова
в елях, обратно взлетевших, настанет;
кто
опущен в несметных скрижалях помина
и не проходит в месте над далями
вод,
где фаянсовая тень их детей дрожала
синим мазком на взъерошенных травах.
ОЗЕРО МИЧИГАН
I
Ослабишь плечи, прохладу нежа,
и грудь не справится со вздохом.
Обрываясь уж в топкие сны,
ты, кренясь на краю, не слушай:
это дышит подводная близь,
ворожа - как небренные - души,
или скользкий утопленник пухнет,
чтобы выдавить лик свой в луне.
20.VII.1979. Кросс Виллидж
II
Страх темноты, пролеска, поворота
и скрипа петель. Страх окна
в лесу, лица явленья в нём.
Страх зреющий, как яблоко, болезни
и щупалец конца, и дёрна на груди.
Страх сокращения земли и вскрытий
гноящих лавой ран, ползущей криво
щели. Страх заливающей
воды в ушах и слизи трав, смолы
безмолвия (не вспомнить где) и этого,
к тебе скользящего, растяжного
движения (не знаю что), страх протяженья
страха, который распорол тебе глаза.
ИСТОРИЯ СОСЕДЕЙ
Вот сын и мать. Она
хворала до смерти, не отлетев
затем, что он не отходил
ночами, сжаля у дверей
Безносую. (Фамилия их Рысь.) Но
сразу старая забыла что-то
тогда (иль вспомнила): узнать
соседей не умела, двора, и вместе
встречали всюду их. Он снедь
таскал. С руками за спиной
она шуршащими шагами за ним
туда-сюда, дивя зевающих хозяек
молчаньем, шубой, новыми зубами
из золота, что он ей справил.
Потом - ушла. И нет. Неделю
спустя её в сопревших листьях
(зима бесснежно шла) нашли:
у кромки леса, в шубе, на пригорке,
с короткой веточкою крови от края
рта. Рысь запил горькую, вестимо.
14.VIII.1979. Нов. Гавань
ПАВЛОВСКИЙ ПАРК
Тесна мне комната моя - о как! -
и заключающий дворец, чьи пропады дурят.
Мне Город тесен, что похож на вечность -
там она! - и чей отлив заботит так,
как покидающая кровь. И что тесней
уединения, что страстной слабости к тебе ли, к вам?
Размины горло перевьют, и возлетаем -
вислый флаг. Теснее музыки и книг
лишь сны, что ловят нас. А дальше НО,
и это парк. Лишь НО просторно нам.
О повидавшие конец, он ваш - но не его.
Он место, где случался Бог. Следы очей
и стоп Его там проницают грудь и лоб.
Там времена проводят всё сквозь воды и
листы - всё, что не нужно никому: зачем оно холмам,
к которым юности сбрелись - пространные о как!
СТАРУШКА
...Аль выцвела? - всё не могла
я рамочку отдать и прятала,
да нет её... Цветков пужалась
и только в глазоньки кота
глядела, будь темень денная,
полуночная будь. Да Господи,
уж год, как милого мне мальчик
в кусточках тех зарыл. А всё
не плакала, и вот... Эх, милый,
сегодня солнышко чуть свет на пальцы
легло, да их уж не согнуть,
и слёзы Бог послал, как девочкой
лила: всё радуги и дальний будто
звон. Уж, верно, ждут родные и
пора приходит. Так-то, милый.
Поди, поди. Теперь чего уж...
21.VIII.1979. Озеро Мичиган
* * *
Я только память о тебе в разлучные два дня
и под ногой, имеющей прибыть, я вся шарманка половиц.
Лишь скважина, чтоб завтра ключ в виске мне
провернуть. Я дверь. Я залп окон за ней.
Та, трижды ломанная тень, чья смоль пойдёт волной.
И то, что сон со лба отрёт, и менее того:
я только брешь твоим очам в безгласные поля.
ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ Г.ЛЕЙТЕНСА В ЭРМИТАЖЕ
По стали льда неверными шагами
плюмажи тополей в луче гранёном
сюда грядут - до венистого дуба;
и вдруг - возлюбленное чудо! - в обратную
со спинами, несомыми коньками,
кустами, крестиками птиц, небес
морщинами - до дыма крыш и белых башен,
где сразу ясно нам: то удалялись тополя
от дуба, вдаль, по льду - и льдами же
вернулись, а мы глазели в тяжкие
шелка, которыми окинуто полнеба,
которое кривит стеклистая вода,
которая нас за нос и водила
по стали льда неверными шагами.
PASTICHE
Здесь выходила та лис-
тва, тут колыхала то во-
да, что относила навсег-
да, чего не свидим ты да
я, что не вернёт для нас зем-
ля, о чём горюю только
я и, может, ты, но мне те-
бя в живых не встретить ни-
когда, где выходила та лис-
тва, где колыхала то во-
да, что затонуло - бух! - в ме-
ня - колодец, чья пьяна во-
да для отворившего ус-
та, но не доставшего до
дна, поскольку там живёт лу-
на и вглубь выходит та лис-
тва, и где колышет то во-
да, чем заманила нас зем-
ля. На-на, ля-ля-ля-ля, ба-
бах.
АМЕРИКАНСКОМУ РЕЦЕНЗЕНТУ КНИГИ
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
Литературоведенье - грех супротив
природы. Не гундось же, гаер старый, кто
с кем спал. Твоя заслуга - грыжа
только на весах, непристойнейший реванш
за нарыв бесплодия. В прибыльной заботе
обузданья чуда он тебя наставит,
серенький компьютор. Вспомнил:
в стареньком журнале - попугай
Напо-ле-она! Старый-старый, голый-
голый. Он кормился с треуголки,
ты - с елабужского гроба.
ПОЭТ ЗА ОКНОМ
Это в мягкую шерсть завернувшись,
птиц галдящих в полёт поднимая,
на лесбосские лирные волны
так выходит Алкей седогрудый,
вея миррой от плеч, сокрушённых
хмелем битв и похмелием пирным.
И взор его моря шире.
Это в синие призраки сосен,
пролетающих в небо и в воды,
так кувшин зашвырнул опустелый
нелюдимый Ли Бо - лишь великую спину завидел,
будто остров, вслепую скользящий
на луны золотую дыру.
Дали зеркальные в тысячи цинов.
На вокзальных камнях Царскосельского
это сжал под бобровой шубой,
так преставясь нечаянно, Анненский
Иннокентий - осколки и тени,
что слагали, что вдруг разорвали
архаически властное сердце.
Урна слушает шум кипариса.
Это ловит снег устами -
вкус судьбы в кристальных сагах -
так кружащий Йёста Берлинг,
слава северных поэтов, обожающий заветы
для пленительной измены всем теням и
всякой вере: верность в сём гипербореев.
Пряди русые за ветром.
За окном среди дня так ведёт, не заботясь,
четверых за плечами высокими,
под аркадой сплочённых столетий,
крылобровый Алексис Раннит,
раздвигая немолчным безгранием Балтики
путь, мощённый ему янтарями.
И окно процветает молчаньем.
ПЕСЕНКА ЁЛОЧНОГО ГНОМА
Приношу вам из доверья
украшение для ели,
что когда-то уж истлела,
отсиявши, проблестевши
для давно прилегших где-то
под песками иль метелью.
Их заботы незабвенны,
чтоб хранили от паденья
вы, бестрепетные дети,
превосходные затеи,
канители и гирлянды,
увивающие ели - не из рвенья
к приношеньям.
УТРА
В галерее тополиной - утра, что отбыли ветром.
Звонкий луч просвечивает веки. Те ли -
склонов уральских, с иконной ладонью, что ткани -
сеть золотую далей - вдруг потянула рассвета? Те ли,
выспанные ангельски над озёрной сталью белорусской?
Те ль - с не солнцем петербургским, в молоке и в
перламутре, где завис в нас - через души -
прожитой не сон, не город, упираясь в теми хлябей
фонарей кометными столбами?
Крепость - чайка - нежность - пропасть -
лодка Господа без вёсел.
То ль - расстрелльевых ступеней, у дверей слепой каморки,
где каштановые взоры над подпухшими устами -
теми, которые, помню, не последними выплывут в смерти?
И когда я не проснулся - то ли утро, то ли
утро?
Те ли - в пыли оренбургской,
что катается под кожей, или - с елями и паром, а под веком
с парусами, на больном снегу германском?
Утра
(мы цветов - слабее), ущерблявшие на годы
из беспомощных объятий барабаном разлучений. Утром дважды
ворочался (а туманы гнули спину) к сизовекой,
к лучеокой - окликавшей мне лишь внятно... Да и
то моё - без ночи, беломайское, сплошное,
в кровь изранившее ноги
под растраченной, набатной, разбескрайней
головою. В нём возмездья - как награды
и как долгий нож - дороги.
И тогда -
московское не утро и не свет. Неверное
такое. И тогда -
отвесившее небом молодость и родину мою.
12.VIII.1980. Нов. Гавань
ЭЛЕГИЯ КАЖДОГО ДНЯ
Так провожу в завалы ваших улиц
гирлянды слюбленных домов с усталыми
дворцами, суровой нитью смётанных, как души,
отлившие из них. Нагие толпы верных статуй -
от сахара надколотых колонн, с позеленелых кровель, из
погостов праздных, ниш и парадизов вдовствующих парков
так провожу.
И волоку шелка мышиные дождей, дождей,
ночей сквозных воздутые полотна и аллегорьями
расписанную завесь, чья тяжесть - мир,
который про меня.
Мятежной карой наводненья
так крою катящую нежить на мостовых, по сизым тротуарам -
ряды менял и юрких фарисеев. Крылом волны я грудь поутру
свежу - пустую - так.
Так ветер, снова рвущий вспять
из озверевшего залива, устами скользкими прошедший
свирели тех мостов, меня опять проносит мимо,
мимо - с обратными глазами мимо всех,
кого не дарит звоном и лучами
и чьих ладоней плоских не язвит
мой северный цветок воспоминанья.
Курсивом - строка В.Жуковского.
11.VIII.1980. Нов. Гавань
КАПИТАНСКАЯ МОГИЛА
Джон Брэдли - мёртвый капитан, плавучая душа.
И туя сзади ни при чём, когда такая тишь
растит на паруснике пыль.
Нетрудно пряди на ветру, который ходит там,
признать на лбу и по плечам. И кто ещё таков?
Кому досталось бы душой шершавой править облака
с восхода на закат!
Джон Брэдли, ярый капитан: над именем фрегат.
Он отжил восемьдесят зим и к ним одну весну -
до дня прощанья кораблей, и в этот день отплыл,
оставив хлябей плоть иным, совсем
теперь один. Был ветер в спину. Но волна! -
она проходит сквозь. И вниз она.
А парус - сам
Джон Брэдли, млечный капитан. Когда такая тишь,
матросы знают наперёд, не обернув чела,
как править им на том ветру высокие труды.
И в прядях их так густо звёзд -
на лбу и по плечам,
в очах же - дымные поля, что снились в детстве нам.
И первый начал так.
Джон Брэдли, юный капитан.... А ветер подхватил.
И каждый гулко вторил там, не отворив уста.
ПИСЬМО ИЗ ПОСЛЕДНЕГО ДЕТСТВА
Ты прислал мне кусты фонтанов
петергофских, эфирную поступь древних
отроков (ах, лодыжки гермесов крылаты!)
и глаза полуночного волка (с острым
золотом смешанный пепел), наведённые
нагло и кротко из крахмальных сугробов
постели, что, как остров, тиха и громадна;
те сухие монашески губы, подлетавшие
сном нежданным, и предутренний - с маслом и
перцем - ты прислал мне наш главный хлеб;
и мальчишечьи грабли пальцев, столь неспешных
в былых волосах, и такие иные объятья, что и
ныне спасли бы меня; и плечо, над которым
веками я бы ждал неугодной зари.
СОБАЧЬЕ
Я ли та собака, чтоб тобой болеть?
истово зализывать ямки от ножа?
Грудь достать чтоб лапами, встав, как для
герба? Мне ль, Улисса вынюхав
в нищем, околеть? Слушать про Елену ли; слушая,
моргать? Мне зайтись ли сукою, понесёшь когда
погубить в дерюге ты слипшихся кутят?
Вытяну ль из брода за полу я полу-
дохлого тебя? Смуглое колено, лаковый каблук
мне собой ласкать ли, морду в сон суя?
Эх, с тобой слакаю кислые ли щи?..
Да мой взор не бегает - котовы глаза.
Та ли иль не та ли, ты - стезя моя.
* * *
А я скольжу не тем ли сном,
что нёс и век назад - тому
назад, вперёд тому: чему? - кого? -
кому?
Лишь вижу: то, что здесь, что есть -
не стать бы не смогло. А этот лаз
меж глыб сквозных - обвал
благих небес - не мне, не путь,
хоть я же, я
ходы себе
прогрыз.
К "СКАЗКЕ КОРОЛЕЙ" М.К.ЧЮРЛЁНИСА
За каменными змеями ветвей,
меж коими висят опухшим роем звёзды,
в зубцах и снах и птицах иглокрылых
плывёт возвышенно наш отчий замок,
где в ночь иную с нами начудят,
по простыням, коврам, исхоженным ступеням
топча протянутую кровь,
чья явная и стылая лазурь
для детских глаз нещадной черни ала.
Край сосен и полей в литовских тополях,
откуда крылий выпорхнул багрянец,
страну живую - солнце поздних дум
сегодня мы подняли на ладонях,
лобзая взором лес и дрёму тёплых крыш.
Огни дрожат в надвинутых венцах,
и длань, как корень, на мече весомом.
В прозрачный час молитвы о земле
мы подорожникам её поклон положим.
Ведь звёздный ход так мерен и подводен
и города восходят по ветвям -
соборы, мельницы и кладбища на скатах -
как плоть надежд во мгле обожествлённой,
где нива светит в лица королям.
* * *
Ты подошла. Я не встречал
один ни разу поздний вечер,
а так устал, что и не встать.
Но из угла кусает взгляд,
и яд в питье почти приятен.
Ты так со мною пообвыклась,
что не отходишь всё одно.
И если б здесь прошла Нева,
ты потащилась бы на ветер
за мной, чтоб полами хлестал
тебя мой - помнишь? - серый плащ,
чтоб увещать, на этом сдавшись:
- Простые вещи всего казистей,
и - ты же знаешь - страшней всего.
К ЭДИТ
И воздух не тотчас восполнил нас отлучающую
даль, и долгий день в груди плескались
густые слёзы, как смола. Так с каждым годом
грубый танец грубее пялится в глаза, и руки
от рук коснеющих уводим - послушнее дитяти
смышлёного. Случился срок учить нас
обживаться средь треска ставень на ветру,
среди пустот - из музык отыгравших,
для коих нам уже, о мой благословенный
и слабый друг, не станет роз возврата.
* * *
Сегодня день весны другой.
Другой. И вся одежда стара,
и сколько кисло-сладких лет
не выбивалась эта пыль, не отворялись
настежь окна. И ничего не шло на слом,
ничто не вялилось на солнце.
А небо катится по лбу, и облака
плывут сквозь ноздри. Я не зашел бы
далеко: мне дали делают так больно.
В ногах какое-то вино. Гроши в кармане
мне смеются, когда опять нагнусь
к шнуркам, что развязались
на задней мысли.
ПЕСОЧНЫЕ РОЗЫ
I
Разъяв порожние объятья,
я вызнал, что за девьей шеей
со вздохом охнувшим ушло.
Ложились медленные стены
в клубящей прахом немоте.
И не сыскав, чем помянуть,
я видел, как в нелепых корчах
в листве кумиры и ступени
в конце обломанной аллеи
сошли с кипящею волною
на колыхнувшееся дно.
II
В глазах легло пустое море
с ветрами, роющими дно,
с ветрами, воющими сипло,
с ветрами, чьи персты пустые,
по памяти невыпавших блаженств,
вслепую вылепили розы
из отлетающих песков.
III
Ночь вошла. Но не смывает
дождь раскосые глаза.
Губы, как зубы, болят у меня
с вашей латинской ухмылки.
Пахнуть смолою зеркальной
станут дожди и без нас.
Поступи этой струистой
не остерёг меня Бог наблюдать. Знать,
вы не завтра от жажды умрёте
в сердце набухшем моём.
ПОРТУГАЛЬСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
I. ЛИССАБОН
Я города, где всё как будто ввысь
и вниз, за угол, в бок, в тупик,
в разброд, по струнке, в бред и вкривь -
переплетясь, перекрестясь, переливаясь с ходу
в Тахо; где девицам не снилось, как
краснеть, а женщины пожившие черны и
богострастны; мужчины носят юные
тела, а юношей смуглят в глазах обеты;
где пахнет рыбьим скользким серебром
и осьминоги в ящиках лоснятся,
где шлюпку валкую зовут "Гроза морей",
где бранный гул и мёд гитарных лун
и слава рваная в гортанных слёзах фадо;
волнистых улочек Альфамы
где райски заплетён безвыходный клубок,
где студит солнце в жёстких ласках бриз -
я города за веками не строил
во снах благих.
2. БАШНЯ БЕЛЕН
Белен. На память - целованье
в настенной башенке. Ветра,
натруженные гоном,
ложатся вздохами у ног,
и - покатили, не прощаясь,
в слепые дали паруса.
Белен. Глаза шагнувшей башни
полынным бегом мутной Тахо
стремимы в хриплый океан.
Шелками дышит ли надежда,
кирасы солнцами глядят,
но то, что всякий сгинет где-то,
не нас печалит. Удалясь,
они несмело обернулись
через плечо - короче так -
к понятливым ли шатким пальмам
иль к ней, из путаного мира
стремимой странно недвижимо,
как будто каменной короне
или Мадонне на краю.
3. ДВОРЕЦ В МАФРЕ
Способен ли Жуан был Пятый,
нам затруднительно судить:
его способности зарыты
и в мрамор голый облачены.
Но раз заметил он монаху,
упёршись взором в обшлага,
что если-де наследник будет,
то встанет, мол, и монастырь...
И чудо - принц визжит в подушках!
Молитва, знать, была внята.
В Эскуриал свой португальский
король вселяет братьев
францисканских.
Стул из рогов оленьих.
Библиотеки бездна.
И спален малых детских
невыспанные сны.
Искрятся ли
ночные вина бегства - не скажет ни
опрятный Мануэль уже, ни мону-
ментальная Амалия: им снится опенённая
волна у Сан-Винцента-за-Стенами.
Нахохлилась растерянная мебель
промозглых анфилад. Портреты ранены ножом и
факелом изрыты. Сегодня смуглого солдата
венчают с девушкой курносой
в соборе. Розовая крыса
просеменила под ворота.
4. ЗАМОК ПЭНА
Мы шли, в листве кружа, на гору
средь гор, поднявших дрёмный сад,
где небо сущее в прудах
стекало в лес непросвещённый,
уже в дооблачные горы
всходящий поступью стволов.
И замок вышел в сказке башен,
где сквозь зубцы, как между пальцев,
текли ручные облака. Так было нам
в простёртой сини, что подставляли
мы глаза, чтоб облака опять лизнули,
и даль, заглоченная далью,
за далью дней нам всё цвела -
сквозь рябь сникающей листвы -
закатом мавританского разлива.
1. КОРДОВА
В блаженных патио вода
одна не спала, когда сиеста
злая уложила коров суровых и
наивных по шеи в бархат
Гвадалквивира. Да
в пазухе пустого храма,
под призмою багряной робы
(юницами эпических родов, как встарь,
ревнительно расшитой),
корчилась
Наша Сеньора Скорбящая,
лия барочные кристаллы мимо
рта, как у розовой рыбы,
заснувшей
в редкой сети кордовских кружев.
2. САЛАМАНКА
"Но компрендо". Тихоходная матрона,
в мелком золоте, отплыла. - Мучас
грасиас, сеньора! - В полночь грешен
невниманьем Божий город
Саламанка.
Утром семь дотошных струн -
из оливкового взора разбитного
гитанёнка: пять вовсю печальных, две
совсем срамных, - на виду
у Старого собора,
где по нишам не дотлела
сера Страшного суда.
3. ГВАДЕЛУПА
Дно разверстое небес
там обрызгано огнями,
где Мадонна с тёмным ликом
смотрит раненно в глаза.
Там янтарны апельсины
над фонтаном монастырским,
где кричали, чтоб Родриго
братьям страхи рассказал,
где гитара с юным хором
завела ночные канты,
и под кровлею дозвёздной
наповал нас ублажила
сласть ликёра травяного,
чтоб поутру, в галерее,
где увядшие полотна
внятно славят Черноликой -
из земли, во снах и сечах -
чудеса и претворенья,
нам подал в дорогу инок
босоногую улыбку.
4. ЭСКУРИАЛ
Эскуриал, как из души, опять ворота растворяет,
хоть день за нами не плывёт и клики птичьи не иссякли.
По небу горные леса слились пологими валами,
и дальним будто тянет морем, пока не грохнули
затворы, пока не встала в рост стена
за всякой стылою стеною, пока пустоты не
проглотят себе враждебные шаги.
Эскуриал,
как судный путь, начнётся чудищем собора.
Крутые рёбра - скал иль стен? - взлетели вдруг
из преисподней. А там, в потухшей вышине,
клубятся с плеском одеянья в цветном, горячечном
кипеньи: зелёный, алый, глупо-голубой и розовый
и райски васильковый.
Теперь, скользя по лестнице
покатой (как тянет прорубь эта!) - туда, где факелы
сгустили черноту, где полых три лежат
на львиных лапах гроба - средь непустых гробов,
гробов, гробов. "Иссякли дни. И вот ничто,
ничто, ничто не в помощь..." Еще: "Как тот блажен,
кто награждён был тут достойною супругой".
Инфант, инфанта - дети Леоноры: кто замертво
родились - безымянны. Порожних ям на десять
поколений - без эпитафий и гербов.
И вот
на мраморной подушке полуприкрытые глаза.
Меча не сжали склеенные пальцы... Прощайте,
Дон Хуан Австрийский. Я вовсе не умею умирать.
Но вы из тени сей, где вам не спится, герцог
лунолобый, мой сон не проплывёте в час, когда
ворота настежь растворяет моей души Эскуриал.
* * *
Были альказары, после -
акведуки. Целовала в душу
пряная Альгамбра.
Пусть теперь угонят
самолёт в обратно -
после хрупкой оперы
о царе Салтане
побрести вдоль Крюкова
чёрного канала,
пригубить у форточки
ветерок высокий -
всё равно с того ли,
с этого ли света.
ОТЕЛЬ (САЛАМАНКА)
По кромешным коридорам, подпуская
тени дыма, тень фанерного сеньора,
в нафталинном габардине,
провожает. Постояльцы: некий хрыч,
упырь по виду, два небритых василиска, - все
скорбят о гаудильо. Чуешь в сером
полотенце достоверный запах Сида?
Отдалённые удобства навидались бурь
и молний, и на всякой простыне -
от любви иль злого зелья - гибнул кто-то
в корчах страшных... Слава в вышних, мы не янки,
а не то б уже зачахли от того, что
мир широкий пахнет чем-то нестандартным.
ДРУЗЬЯМ
И даже те, на чьих устах моё
простыло имя, вы все со мною у стекла в сей
час - прозрачным лбом. Я
с вами столько лишних
лет не падал в тишину
стремглав, а снег ночной в моём
окне так мается о нас, как будто вы ещё верны
несказанным словам, как
будто даром я возмог
чему-то изменить, как
будто скудная зима простит
нам враз судьбу-
сумятицу - за схлёсты глаз
в полночный снегопад.
К КАРТИНЕ
За всякою явью - Христос
нашей рани: из тех отструивших
свинцовых обвалов (на пряные
яства не их променяем), из
пальцев, оплавленных теми
свечами. Из ссыпанных листьев,
грозящих угаром, нагнулся видений
безокий Податель, Сам пепельноустый
водитель туманов - Христос
Петербургский. За
всякою явью - лишь крестные
раны. За
каждою близью -
гвоздильные язвы.
ГРАВЮРЫ
Туда, где всё нездешне буро,
не сходит снег, поток не сякнет,
не волокут на бойню с луга,
не баламутят едкой цвели; где
не проходят облака и ветер трудный, не
слабея, нетленно складки тех
материй (у колченогих куртизанов и дев
не внемлющих) в разлёте треплет; где
топор, взлетев, беззначен жаркой шее:
где взор от взора не ползёт, не облупа-
ются торцы, не вырубают парков дряхлых;
где от свечей ежастые лучи... Всегда
там всё по мне: нездешне буро. И не-
хотя взглянув оттуда, вас потому
вполне не разумею и всякий день
смутнее признаю.
* * *
Вот он - час: порви
дневник. Начинаем жить
сначала. Чтоб оно не дре-
безжало, сердцу надо дать
пинка. А жалеть о том,
что было -
блажь. Вот не было
чего...
* * *
За рамой ива, как в подводной дали,
волнится - мороком косматым.
Два дня дожди и хворь. Твоё письмо
о влюбчивой печали и
вязи снов не может быть ко мне.
Мне холодно. Любить тебя за валом
густых дождей - докука окаянная
такая, такая разненастная весна.
ЖИВОПИСАНЫЕ ЛОШАДИ
Так часто, мимо седоков
послеобеденной поглядки,
я в очи прошлых лошадей
вдруг упадаю оглушённо, не
слыша ни фанфар викторий, ни
ретирации конфузливых рожков,
в забвении своих и вражьих,
у ветхого доверчивого паха
равно врезающихся шпор.
(Что нам несомые? -
к несущим
родство по язвам
уследимо).
Оглаживать ли взором букли,
жабо стрекозами на латах
иль эту Славу сливозадую
в грудастых облаках - они
пытливо косятся сквозь чёлки
(мне сразу верится, что ниот-
куда; мне верно чудится, что в ни-
куда). И сразу синезвоны за
висками. И шаг раскованный - в заоблачные рамы.
* * *
Бабуся мне, когда её подругу
закопали, всё сетовала в ранний
вечер, что внучки больно обижали
покойницу, всё плакала. И чем же
было утешать её, чьи тёмные
ладони навеяли мне лиственное
детство?
Наследовал гребёнку
частую и зеркальце с обломленным
углом, а в нём - меж окнами
окно в буране тополином, и
сверху взор её, когда, в сержантских
лычках по плечам, к порогу
подбежал, и снизу тот - растерянный
её, голубящий неспешно.
ТОТ СВЕТ
...Россия для всего, что не-Россия, всегда была тем светом... Некоей угрозой спасения - душ - через гибель тел.
|
К. Р.
Лихая удаль, честь, любовь к отчизне славной,
К великому Царю и вере православной...
- Мосьё, я старый командир, и подзабылось, слава Богу...
Лишь помню некий юбилей, "к ноге!", года мои, хор музыки;
лишь - чёрной шляпы монумент, и вуалетку, и платие гри-
перль на Королеве Эллинов, лорнет её, цепочку, мелоди-
ческий привет; лишь наше страшное "урра-аа-а!",
кадетское - не то, каким пролаяла б пехота, трижды
глупая, мосьё... Кхе-кхе. За ней на шаг - Великий Князь
(наш Августейший Шеф). Ах да, однажды честь
имели мы ему быть местом вдохновенья для пьесы,
называемой "Кадету"... Его двух стройных сыновей
я отроками помню в дортуаре, смущённых сразу нашими,
пардон, отдельными словами. То - Иоанн и Гавриил. Мир праху
их и Константина, и Государя, и сей России... Теперь
оставит жизнь старик-кадет, перекрестясь без многих слов,
для той, где все теперь, мосьё. Оревуар. Имею честь.
...Алло! Вот текст сонета Царственного Шефа: "Хоть
мальчик ты... Настанет день..." Я перешлю. Да и
на что оно вам сдалось? Всё переврёте ведь. Адьё.
1961. Париж. / 14.IV.1979. Нов. Гавань
ОТЪЕЗД АЛЕКСАНДРЫ ФЕОДОРОВНЫ
ИЗ ПАЛЕРМО
Мы слов немногих небренность дарим.
Лоснится гавань тоской и славой.
Адио, ностра императриче!
Адио-дио-о! Иди цветами.
- Энрике, видишь? Гляди, Сантино!
Ах, эта донна любима в звёздах,
плывущих краем, где ты не будешь.
Ну, что ты тянешь? Ведь мама плачет.
Адио-ио, ностра... Да что ты хочешь?!
Она сияет. Храни, Мадонна. И дочка рядом...
- Мама так любят! И всё теперь моё открыто
окно на Монте Пеллегрино... Ах, Карл, скорее
лети, любимый, и рядом вечно! Весна какая!
Чужие люди, а эта плачет... Что если видит
из той лазури нас, бисер словно,
Адини наша... Мама сияет. Ах, Карл любимый!
Адио, ностра императриче!
Мы слов немногих небренность дарим.
Лоснится гавань тоской и славой.
Адио-дио-о! Иди цветами.
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Спокойный стоял городовой на перекрёстке.
Навеки он, казалось, там стоял...
Опять подумалось о лицах дальних
детства, забыв и поздние измены,
и смерть на них. Опять во снах лежим мы
с Никки, Серёжей, Жоржем на лугу Царя
в Нескучном, и вот о светах - тянущих куда? -
ещё за юными плечами. И вот уж льну к огням,
гудящим около. Иное в пух, иное в прах
изжито.
1933. Париж. / 23.XII.1979. Нов. Гавань
ПЕТР ВТОРОЙ
1. НА КОРОНОВАНИЕ
Сотни мальчиков, с алым на
белом, возвышали стеклянный
голос. Долгостанный и
птиценогий ликовал император-
отрок, на латино-российские
канты отзываясь лицом
оленьим - убиенного (ш-ш!)
Алексея (и невинной Шарлотты-
Софьи Вольфенбюттельской и
Брауншвейгской). Феофан сожигал
фейерверки. Разумел Остерман -
не время натирать себе морду
лимоном. Пискло охнули при
виватах ларцевидной кареты
золотые запятки.
1728. Новгород / 15.XI.1979. Нов. Гавань
2. НА ПРЕСТАВЛЕНИЕ
- Было столько стихов
к Лисавете, подкопытного грома и
грязи, соколов да собак, и светило
темнилось - дабы сгинул генера-
лиссимус, а Ивану - Андрей
Первозванный: чтоб забыл двух невест
нареченных и разлил своеручно по
залам гулкий морок
виолончельный.
Выплывай же вперёд
сапогами, отрок, в утро непрошенной
свадьбы - эхом хладной воды
иорданной. Не труди накалённое
тело. Разужасней явлюсь я
к Анне. А Иван отпадет
безглавым. Прикажи: ЗАПРЯГАЙТЕ
СА-А-НИ! Я ПОЕДУ
К СЕСТРЕ
НАТАЛЬЕ...
1730. Москва / 18.IV.1980
НА СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРЫ ФЕОДОРОВНЫ
Я одинок в углу стою.
Как жизнью полон я тобою.
И жертву тайную мою
Я приношу тебе душою.
1. ФРЕЙЛИНЫ
Тогда разинул уста и веки кто-кто из маленьких великих
князей: от свечки его склонённой возвилось змеем
лазурным пламя и поскользило мечась к короне,
зависшей в сводах над катафалком, чешуи пепла
в пути ссыпая - вниз, где запнулась уж панихида
и ГРОБ НЕСИТЕ! - уж голос царский. Но в грузных символах
теряясь, все послабело и дымом сникло... Переглянулись,
перекрестившись.
А в головах неслышащей царицы
три фрейлины пребыли недвижимы (не так себя до нас
ваяли), не поведя гравюрной бровью - за маями,
летучими снегами и родами и за концами, небывшим за
и незабытым, за клавикордами, дуэлями, скамьями и
ротондами, альбомными стихами, гитарами, качелями,
парадами, за снами, за ней, с замкнутыми очами. И все
при этом помянули, что и Адини погасла в Царском; как колесом
в гробу стояла грудь Николая, а сам был чёрным (как жизнь тому
назад, в Берлине, он Лаллу Рук вёл в паре юной, чтоб мистик спел
полувлюблённый нам гений чистой красоты), и злая ночь: она,
во мраморе, одна всплывала за волнами громадными
пожара, что над Невою ледяной гуляли в Зимнем... Гуляли
в Зимнем! И в той несбыточной кадрили
как прокатили по залам жарким - кружащей цепью.
За Государем. Как пролетали - рука в руке. В неизгладимой.
И за лицом как отвернулось необратимое лицо.
2. СОБОР
Мимо стен страшащей толщи, окон в нишах,
часовых, ветра голоса и хлёста
из проулков черноты, перемахивая лужи
с исковерканной листвою, паж в лосинах -
след мипарти - на полночный пост к царице
пробирается в собор. За плечом оставил ветер,
забежав в глухую арку. Холод плит сукно проходит.
Обернулся. Глазом сизым газ мигнул из фонаря.
Шорох будто? Может, листья... Приближаются шаги.
Ну же, чёртова перчатка!.. Прости, Господи. Пора.
Свечи щёлкают нестройно. Как мышей сухие
крылья, за колоннами знамёна. По надгробиям -
кресты. Лоб далёкий над парчою. Наплывают на
ступени фрейлин шлейфы и вуали. Статуарными
пажами, горностаями, гербами слышит дымный
катафалк, как куранты запевают, чтобы Бог
царей хранил. Тучи тяжко откатили. Сед
в ноябрьской луне, накренился плоский ангел
на верху гранёной мачты и - повлёк,
не тронув ивы, в пропасть скользкую
залива по Неве ладью Трезини,
забирая ветер чёрный в озолоченные крылья.
1865. СПб. / 21.VIII.1980
ПРЕДБАЛЬНЫЙ СОН,
или ПИСЬМО О ПРИЧЁСКЕ
И вот, ма шер, когда по волосам помадой прошёлся бес
в последний, значит, раз, уж было за полночь тогда
и мон амур давно свистел за стенкою в постеле.
Тогда, кушонами с боков уткнувшись, стала
я в креслах дожидаться, чтоб светало. А девки
легонько пели мне, блюдя за наклоненьем головы
и за сползанием хфигуры, которую, скажу, трудов
великих стоило иметь в пепрен... в перпенхуляре.
И тут, шери, увидела я, матушка, себя
и князь Андрей Иваныча - живьём и в крупной зале!..
А роговая музыка гудит! И ленты, ленты по моим плечам,
шнуры косицами, цветущия хирлянды. На подбородке
мушка, значит, выражает: "люблю, да не сыщу",
а на виске - про томну страсть другая. Дальше больше.
Так прямо надо лбом - долины меж холмов и там
овечки милыя и с пастушками рделыя пастушки
расселись в розовых кустах. Натуры вид вершит
спешащий ключ. А птички, мошки, бабочки гурьбой
как раз там носятся. Зело отрадная картина!
Над ней - причудливыя горы, где зрелый муж, в браде лопатой,
в затворе дни влачит, пия там козье млеко, пиша другую свету
Элоизу. Иной удел у гражданина, жадна в пользу
Отечеству свой принести живот. К тому баталия
наведена там кораблей, палящих, мон ами, во смраде
и жупле немилосердно там друг в дружку. И себе
представь обратно наш штандарт на дыбом вставших
буклях!
А дале виделось мне так:
когда вошла-то я, на самом на моём верху (надумал
кауфёришка) забрызгали хфонтаны. На Государыни же милостивы
взоры поднялся с громом в небо хфейерверкер и
многая пальба окрест, ма бель, открылась.
Но там уж всё для глаз моих подёрнулось
военным дымом, искрами и лёгким прахом.
Как раз очнулась тут и чую, батюшки, что мухи
обсели мне лицо! Все девки спят как мёртвыя.
Святой Гeoprий! А встать - не встать, прикована как будто
я новой Андромахою к скале. Насилу уж
дотыкалась ногой до девкиной-то морды. Потом я поняла:
халуй треклятый тот мне улеем душистым
представил голову и с цельным роем пчёлок,
трясущихся на вроде как пружинках и крючках. На горе
думочка ушла из-под лица, а мёд как раз полился...
А впрочем будь здорова, мать. Твою я
ласку чую. А объявлюсь, как сделаюсь здорова.
1770-е. СПб. / 3.VIII.1981
МОСКВА ТОГО ГОДА
1
Люди стали помирать. И пошла
такая ересь: Богородицы икона, на
воротах в Белый город из Варварки,
тридцать лет не слышала молебнов
и не грелась в пламени свечей;
порешил Христос каменьев
град обрушить на Москву,
да вступилась Богоматерь,
упросив на православных
мор трехмесячный наслать...
Навощили,
просмолили тут одежды лиходеям,
душегубцам и - в фурманщики послали,
нацепив на морды маски.
Чтоб из окон да со снега
москвичей бы волочили, собирали,
согребали - дали крючья им на
палках. Но и так не поспевали.
Поразитель
Фридриха Второго, что второй командовал
столицей, бросив всё, бежит в свои деревни
(где старик не заразился, хоть и помер ровно
через год).
А Москва молилась и пустела,
а потом, уставши вымирать,
загуляла, грабила, зверела и, поднявшись
с воем на дыбы, затоптала в снег
багровый своего архиерея.
2
И вот, герой на смену беглецу,
явился генерал П.Д.Еропкин!
Два дня с седла он не слезает,
гоняет холостыми, пуляет боевыми и
бунт примерно усмиряет. А там, глядишь,
и нет чумы...
Москвы начальником,
с андреевской звездою на кафтане,
его сажает мудрая Фелица и спрашивает так:
"Скажи ещё, чего желаешь. Крестьян - так
тысячи четыре?.. Долги отдам за все пиры..."
Еропкин ей, с поклоном: "Нет, Государыня, довольно
и прежнего с меня. И статочное ль дело,
коль мы начнем должать, чтоб, матушка,
за нас тебе платить?!"
Тогда Екатерина
святой Екатерины звезду послала с лентой
Еропкиной, жене.
Как все орлы златого века,
Еропкин пудрился, носил пучок, причёсан
бывал в три локона. Еропкин был стрелок:
стрелою яблоко у отроча снимал
с затылка. С крестьян же брал своих
оброку двух рублей не боле. Собой красавец
и силач он был в лета младые. А умер сразу,
как заснул, не поджидая часа рокового:
он лбом расплющил табакерку,
три пульки отыгравши в рокамболь.
1771. Москва / 14.IX.1981
СПОР
Императрица Елисавета, которую тошнило
от масла постного и яблочного духу
(сиречь запретного плода), которая в балах
являлась ловким кавалером и блюдо всякое всегда
вином токайским запивала (снимая сим же
головную боль), которая по праздникам певала
сама средь хора певчих и образа пешком носила
для хода крестного в своих столицах; покойников
которая пужалась, а спать ложилась в пять утра;
которая пятнадцать тысяч платьев по шкафам
(еще четыре - в Москве сгорело) оставила, почивши в Бозе, -
императрица Елисавета сидела как-то на балконе
в послеобеденном веселье (историк не сказал
"навеселе"), когда вдали сподобилась процессию приметить,
которая нескладно продвигалась от графа Строганова
дома. В начале выступал фельдмаршал старый Салтыков,
двумя гвардейцами под руки бережно ведомый, за ним -
сам Строганов с двумя, а дале адъютанты, кавалеры
и с дамами, и все со всех сторон военными поддержаны
плечами. Императрица Елисавета, немного изумясь,
шлёт к ним спросить, куда их так ведут. Ответ: от Строганова
к Салтыкову. Де вышел спор - который из двоих мужей
венгерское отборнее имеет, да затруднились встать
из-за столов. "МОЁ! Сказать, моё всех лучше здесь,
и всех вести сюда".
В тот вечер у Зелёного моста,
задравши головы к царицыну балкону,
вся публика столицы проезжала и зрела, не смыкая рта,
там графа Салтыкова в объятьях Строганова графа,
всех адъютантов и гостей румяных, во сне младенческом
вповалку возлежавших. В ту ночь по площадям торговок и
старух не собирали сплетни рассказать и пяток вовсе не чесали
императрице Елисавете. В опочивальне же бессонный,
бессменный обер-истопник Чулков Василий,
когда его толкнули проходивши (историки не скажут
"пронося"), не преминул отнять лицо от тюфячка,
чтоб "лебедь бе-елая" пропеть всепресветлейшей.
ВИДЕНИЕ АННЫ ИОАННОВНЫ
"Уведомились мы, что в Москве
на Петровском кружале стоит на окне
скворец, который так хорошо говорит,
что все люди, которые мимо идут,
останавливаются и его слушают;
того ради имеете вы оного скворца
купить и немедленно сюда прислать".
Она
подняла веки злобно на свечу и вывела
пером визжащим АННА.
Какой-то бес
кусал весь день ей бок так, что смотреть
отвратно на конфекты. Да и ружья
теперь поднять невмочь. А как скакала,
Господи помилуй, за тем оленем
петергофским... И станут ли потом-то поминать
по двум отметинам шальным, что в Мон-
плезире, что вот стреляла тут царица Анна,
аль позабудут?
"Уведомились мы..."
Уж кто тогда сазанов, головлей
да судаков позвать сумеет колокольцем
в пруду перед Марли? Заплакала неслышно
и трудно встала помолиться. На рамы лёг с Невы
тяжёлый ветер. "Имеете вы оного скворца
немедленно прибить".
Вбегает герцог
потный, шепчет скоро. А? Там в зале,
там в зале тронной непорядок, там
самозванка дерзкая! Пойти не хочет Анна.
Ей так тепло и тошно, и в пудермантеле
она, и за полночь давно.
Стоит сробевший
взвод. И женщина немолодая, чуть
голову склонив, гуляет равнодушно вперёд-
назад. Вот обернулась. Господи! две Анны.
Но настоящая - земли темнее.
"Ты...
ты кто? Зачем пришла?" Та, станом велика и
взрачна, молчит и пялит на императрицу
её же рыбии глаза. Вот пятится ступеньками до
трона, вот...
Бирон орёт. Летят к плечам приклады.
Ни-ко-го. Да что же... "То смерть моя". - "Позвольте
мне, Государыня..." - "То смерть. Подите
спать".
Она немым солдатам поклонилась.
"Имеете простить вы оного скворца".
ПОДВИГ ПУСТОСВЯТСТВА,
или ГАВРЮША-СТАРЧИК
"...Как порешил с постели не вставать,
зачал предсказывать, так я за ним ходила -
семь годочков: и облачала, и раздевала, и раза по три
на день, бывало, обтирала. Да. Иные говорят,
что он-де вроде кучи был, живая грязь на тряпочках
в угле-то; иные веруют: мол подвиг есть
какой.
Ну он, известно, ел в постели
да руками - и щи, и кашку - да обтирал всё
об себя; ну тут уж он и оправлялся... А то,
бывало, ручку замарает. Ты подойдешь, так
он тебя-то и перекрестит. Тут барыня
одна спросила про муженька сваго, куда бежал.
Так он в неё помоями! А раз уж девица пригожая
к нему нагнулась низко и о покраже - обдал ей все
глаза вонючей нечистью. Подумай! Ему и руки
лобызали и воду, что пальцами он всю перемешал,
ту воду почитали пить за истинное
благо.
Больных он пользовал: старухам
рвал платья вклочь, бил яблоком мочёным,
то слюньками обмазывал, а то и... Да.
А девок молодых вертел всё на коленках,
пока не притомится. Ты чай-то что не пьёшь?
Медку...
Что говорил, то
трудно вразуметь. Сбылося, не сбылося - и
подавно. Вот скажет: "доски". Кто думает о
гробе, кто о заборе у хором, кто о... Ведь я
сама купецкая ведь дочка, ну не понять: темно.
Мудрёный. Так со святыми век живи!
А помер -
не пробраться к нам было. Порастащили всё до последней
тряпки. На пятый день лишь хоронили, и то
все ругань: где? куда? что скоро?.. Матюша-
кувырок мне: "Гляди, народу тьмущщщщая ведь
тьма!" Дождище, грязь, а барышни, купчихи
всё норовят под гроб-то проползти и бух! -
неси давай над ними... Страсть какая! Да.
Всё трогают его, трясут и щепочки от дна-то...
Несли на головах. Была и Машка-пьяница, пророчица
Устинья и Фекла Болящая; Кирюша-старчик,
что после по торговой части стал, второй Кирюша и
Татьяна Босая, да, что ныне, бачат, мадама
в доме непотребном (тьфу!); потом Данилушка-
на-Кровле и Кузька-бог, который свальный грех...
(прости мя Господи!) да кто... а-а! Мандрыга-
угадчик (тот истинно святой) - все поминали
до поздних петухов. А там, чем-свет, всю насыпь
порасхватали по домам. Устроили посля плиту
Гаврюше нашему - ту в месяц разломали
сердобольцы...
Теперь уж он юродствует, второй
Гаврюша. Так он почище, знамо... И водочку берёт,
и кушает всё с ложки, да вот лохань... Ну
страсть как много говорит: его о женихе, о свахе,
а он тебе про неустройства всё в державах заграничных.
Народ валит - нет мочи. Да. А ты почто сама-то?..
Ты, девка, как очнётся, не черемонься, ни-ни-ни (уж
больно так серчает), а делай, не переча, что велит".
1820-е. Москва / 10.III.1983
ТРИПТИХ РУССКИХ ГАСТРОНОМОВ
1. PORCUS TROJANUS У ПОТЕМКИНА
Чтоб печень беспримерно увеличить, свинью светлейшего
кормили грецкими орехами и ягодами винными кормили,
а перед смертью поили допьяна вином венгерским.
Как только кровь и пьяная её душа сквозь ранку малую,
что делали в паху, вся выйдет - вином хавронью тут же
вымывали, а внутренности все тащили через горло. И,
через горло же, искусники сосиски и колбасы пропускали,
а между делом заливали туда питательнеший соус. В конце
концов лишь половину той свиньи обмазывали толстым слоем
теста (замешанного на вине и масле), и в самый вольный дух
немедля жарить ставили... Когда с готового жаркого
сдирали это тесто, то половина жареной была, а половина -
варёною. Свинья такая целиком являлася к столу,
непотрошёною на вид! В распахнутом халате, раздумчиво
почёсывая грудь, к гостям тогда являлся одичало Ея
Величества таврический орёл. Сверкнув чудесно уцелевшим
оком, вдруг молвил: "Скучно. Унесите на..."
2. ROTI А L'IMPERATRICE
Нашедши лучшую мясистую оливку
и вынув косточку, воткнём
в неё анчоуса кусочек. С иными
оливками, мы начиняем ею
жаворонка. И птаху малую, достойно
приготовив, мы в перепёлку
жирную заключим. Ту перепёлку
всунем в куропатку, которую
вместит в себе фазан;
которого мы тщательно заложим
в большого каплуна. И вот -
сим каплуном мы начиняем
поросёнка. Последний жарится
на медленном огне до видимой
румянки... Теперь отрежем осторожно
сочащиеся части для вельмож.
Для Государыни - бесценная оливка,
которую она, мы знаем, есть
не станет, но, повертев в перстах
державных и уведя глаза за
веки, лишь пососёт неторопливо,
пока гремит с хоров высоких:
"Славься сим Ека-те-рина!
Славься, нежная к нам мать".
3. ПОСЛЕПОЛУДЕННЫЙ СОН
С пармезаном и каштанами эта
похлёбка из рябцев и филейка большая
по-султански (точно так: большая -
по-султански), и глаза говяжьи в соусе
(в соусе говяжии глазищи!), что зовут
"поутру проснувшись": и хвосты
телячьи по-татарски и телячьи же
уши крошёныя. Да и нёбная часть в золе,
гарниро-ох!-ованная трюфелями!
А баранья нога столистовая... Эти голуби
по-станиславски, эти горлицы, ууу,
по Ноялеву! В обуви гусь и бекасы
с устрицами... Соус, ой! из вяленых
языков оленьих... Ну а жирный крем
девичий, и гато из винограда,
винограда, винограда,
то гато из винограда,
и лобзания, и слёзы
и заря, заря!..
Курсивом - строки А.Фета.
МОСКОВСКИЕ РЯДЫ
Я эту улицу не мину. "Сентиментальные
колечки! Авантажные разные галантерейные
вещи: сыр голландский, казанское мыло,
бальзам Самохотов, гарлемские капли!
Пожалуйте-с, просим. У нас покупали".
Безмерная баба подкатит под локоть и:
"Ни-точек! Ни-ии-точек!" - и
ниточки входят с иголками в ухо
(а пухлая ручка в кармане гуляет).
"Чуло-о-очков, шнуро-очков! У нас
покупали".
Но гаркнет торгаш
непостижное смертным, и речи Москвы
ковылями сникают. Качая лотком над
крутыми плечами, он что-то проносит под
сальною тряпкой - пока не сойдутся
разверстые воды.
"А что продает-то?!"
- "Да почки бычачьи".
"Презентабельные
ленты, милютерные жилетки! Помочи и хомуты
субтильные-с самые, интерррресное, сударь,
пике из..." - "Любезный, а в этой что
склянке?" - "Ну как же, извольте, вестимое
дело: эссенция до-оо-олгой жизни".
РОМАНСЫ И АРИИ
ЛЕОНИДУ СОБИНОВУ
Юноша, не страшен тот нечётный час.
От земли неверной веки отделят.
Сколько тайн сулили - вот они твои.
Колокольчик в доле - прозвенит душа,
только сердце этот звон не повторит.
Только ветер, робко шевеля власы,
взор твой не заставит негой проблестеть:
времени, он знает, время уступить.
БОРИСУ ГМЫРЕ
Не тужи. Кому, сверкая, греет душу блажь метелей?
Пьёшь вино ли - подлетаешь. Утром рушишься во прах.
Юный - ветром, милой, другом как возлюблен. Мучим после.
Как отравлен навсегда.
Как чума тебя скрутила
после свадьбы разливанной,
после верб и хороводов,
целований злых и даже -
петушиных снов зари.
Старость крякнет: наплевать! Долом нас вино проводит -
тем, что после нас накроет. И сегодня - затемнеет -
выпьем прошлого мы солнца, утром дабы стало тошно,
чтоб кололась голова
и вокруг всё те же морды
рожи корчили опять,
чтоб кипеть нам в пене ада,
сладко рай воспоминая
и плетясь к вратам недальним.
НАДЕЖДЕ ОБУХОВОЙ
Неприметная горсточка нас
Высоко над рекою молчит.
Мы узнаем, что солнце близко,
Мы увидим, как звёзды прошли.
Мы увидим, как звёзды прошли,
И пойдут, заплетаясь, года
Подниматься к нам поясом трав.
На разлитые дали глядя,
Покачнётся былое в очах,
И мы встретим рассвет на ветру
Прежде птиц, огласивших его.
Прежде птиц, огласивших его,
Наши тройки влетают в зарю,
Но и так не нагоним себя.
Неприметная горсточка нас
Высоко над рекою молчит.
Мы увидим, как солнце прошло,
Мы узнаем, что звёзды близки.
СЕРГЕЮ ЛЕМЕШЕВУ
Благую песню столько раз
Душа, блуждая, заводила,
На светы поздние срываясь
В неослежённые снега,
Язвили золотом глаза
Где свечи солнечные елей
И с небом слюбленному АААНЬГЕЛ
Учил сгорающий закат...
Иную песню в певчий час
И на следах моих томимый,
Над всем, что выведет огляд,
О, раздели на вдох и выдох,
Как грудь моя её лила бы,
Храня из ветра свет и снег.
ИВАНУ КОЗЛОВСКОМУ
(для русского тенора, двойного хора, органа и колоколов)
Мучений прежних пожалеть -
какая ранящая радость,
какие стылые заботы
в воротах возраста нас ждали:
не усладит уж так печаль,
разлуки сил не набавляют,
сладей апреля сохлый лист
и снег в тени так долго тает,
а все измены милых душ
не просветят в душе погоста
ни удивленьем, ни похмельем...
Взор обживается в прощанье,
бессонье населяет ложь.
Но свечи смутно-острых встреч
порой лучатся над водами
текучих дней, которых вдруг
избы-ыиииииить нам слабость
или блАААААААгость помешает.
У-у-у-у-у-у...
АЛЕКСАНДРУ ВЕРТИНСКОМУ
От тельцов златых, непыльных,
от болезней и счетов,
от чужбин, душе невнятных
и не помнящих про вас,
от детей, не знающих по-русски,
не травя злоречьем ран,
не спросив непосвящённых,
не причастных вашим снам,
проживя ничейным в мире,
чтоб узнать себя впервые,
чтобы легче умирать -
поезжайте раз в Россию -
наглядеться, навздыхаться,
поклониться навсегда -
если вам нужна такая
бледноликая, родная,
неудобная земля,
если лжи уютной мало,
что и так она внутри,
если не для мебелишек,
не для частностей родились,
если есть для вас могилы,
чтоб траву рукой погладить,
если то для вас забота,
что мы все зачем-то жили.
АНАСТАСИИ ВЯЛЬЦЕВОЙ
Я скачуууу, всё скачуууу,
Я за облаком лечу,
Но не хочуууу, не хочуууу
Знать, что вас, что так лю-блю.
И вот, сама позабывая,
Что душу аду отдала,
На ветре пламенном я тааааю,
На ветре плачущем я таааааю,
Как в роковой руке свеча.
Я скачуууу, всё скачуууу,
И мурлычу песнь свою,
Но соскочуууу, соскочуууу
В том саду, где вас сы-щу.
И вот пора пришла иная,
Забота сердца далека.
Зачем же, друг, я угасааааю,
Зачем так скоро угасаааааю,
Как в роковой руке свеча?
ЕВГЕНИИ РАЗИНОЙ
Мне приснилось завтра -
не с неизлечимым
привкусом металла, не с перевиранием
вех посюсторонних, не с заветной нотою
под катящий занавес, не с кумирней охнувшей
вымершего зала, не с тоской изношенной, -
мне приснилось завтра
сквозь цыплячьи веки
слепоты тревожной, где проходит ветер -
лиственная лава - над крыльцом, а рядом -
ситцевая мама, снова сдула пенку
с моего какао: "Время подниматься".
- Мне приснилось завтра...
Что ж ты замолчала?
ИРИНЕ АРХИПОВОЙ
Аве Мария. По маковкам
елей - о, ненароком - не ветром, не
вздохом рассветным - с
прозрачного всхолмья - пере-
плывая.
Благой колокольчик
не приморится дрейфующим шлейфом.
Донные травы слипаются в
космы. Обруч
лучами разорван и
сомкнут. Лишь на плечо
облакам головою - и по виску разветвятся
и канут тени струистые
рос.
Рыжей трухою глазницы
забиты, ноздри и горло опали. Молодо.
Вольно. Знаю, по выводку
ландышей утлых, выше - по маковкам
елей сплочённых - млечной
стопою - не вздохом, не ветром
рассветным - о, ненароком - Мария. Мария. Аве
Мария. Аминь.
ШПАЛЕРА
В Ораниенбауме, Ла Гранхе иль Эквоне -
душа не вспомнит где - подале от
резины и бетона, поближе к доживающей
молве - я, вытканный однажды на
шпалере,
средь мельниц и стволов, махровых лап и крылий -
ступающим по лиственному дну
пролитой в облако аллеи,
не удивлюсь:
потрогайте неколкие зрачки
и пальцы на фисташковом подкладе.
Полночи промолчали о России, но ни
одна свеча не потекла. Все музыканты жутко
недвижимы,
пока углами мгла не закачала. Вы
помните, как медленно икали перед смертью? А вы,
сударыня, враз покатились по дивану, уже не чуя,
что кофием со сливками залились. А
вас, младенчика, бокастая кормилица без матушки
щипала, а мальчику... да Бог ее прости! А вы,
из прусской юности, любили дикую козу
с брусникой. Вы... Не стану:
все новости благие старо-
ваты, все нити сотканы и на из-
нанке ничья ладонь не встретит узелков,
но, может быть - невнятные ладони,
не испугавшись острого тепла.
Дата публикации: 14.11.2010, Прочитано: 5320 раз |