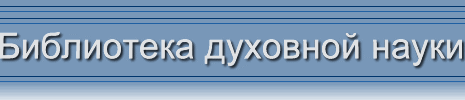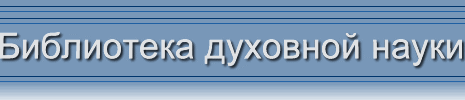Рейн Евгений Борисович (род. 1935) Стихотворения
Из антологии "У Голубой Лагуны"
Сосед Котов
В коммунальной квартире жил сосед Котов.
Расторопный мужчина без пальца.
Эту комнату слева он отсудил у кого-то.
Он судился. Тот умер, а Котов остался.
Каждый вечер публично он мыл ноги
и толковал сообщения их московской газеты "Известия".
И из тех, кто варились на кухне и мылись, многие
задавали вопросы - все Котову было известно.
Редко он напивался, всегда в одиночку, и лазил,
было слышно и страшно, куда-то он лазил ночами,
доставал непонятные и одинокие вазы;
пел частушки, давил черепки с голубыми мечами.
Он сидел на балконе и вниз улыбаясь, ругался,
курил и сбрасывал пепел на головы проходящих;
писем не получал, телеграмм и квитанций пугался
и отдельно прибил: А.М.Котов - почтовый ящик.
Летом я переехал. Меня остановят и скажут:
- Слушай, Котова помнишь? Так вот, он убийца,
или вор, или платный агент. Я поверю. Мной нажит
темный след неприязни. За Котова нечем вступиться.
Если жил человек - рядом голос эпохи огромной
и простые предметы, скажем, ветер, деревья и птицы.
Равнодушье и мелочь показывал, праздновал, помнил.
...Что он прятал? И как за него заступиться?..
***
Г.Н
Из комнаты, где лебеди и ходики,
И форменки балтийские внизу,
Глядела ты на вознесенье готики,
Подобной пирамиде и ножу.
Плясали тигры в цирке на гастролях,
Дудел орган в проветренных костелах,
И море мелкое до Англии катилсь,
О, лето, милое, как ты мне пригодилось.
О, как любовь ты пригодилась летом,
Там, в Таллине, среди мотоциклетов,
На берегу в линялых синих лентах,
Нас обижали, вот мы убежали,
Глотать клубнику на базаре.
Идет Иванов день, эстонский праздник,
Напрасный праздник для мужчин опрятных.
Они бросают на песок окурки,
Колбасные пергаментные шкурки,
Промокшие стаканчики пивные
И мелочи немногие иные.
А современные ты помнишь дачи,
Где окон нет, но есть иллюминатор?
Где селятся, должно быть, лютеране
И твердо ждут задуманной удачи.
О, милая, ходи в заливе бледном,
Качай, качай трамплина лес гудящий,
Трамплин для лыжников, поломанный за лето.
Давай, как лютеране, ждать удачи.
От большногих девушек эстонских
Что мне останется? Лишь ты,
А я любил их.
От пляжей, сосен, молока и солнца -
Лишь ты одна, а как приятны были
Напитки и продукты и манеры.
Я все забыл, а ты на всякий случай
Их береги и станет тихой службой
Ушедший этот календарь неверный.
Я вез тебя в Эстонию подругой,
А стала ты республикой рыбацкой,
О, чудо, - говорб тебе, потрогай
Ее, сирену, и страну грабастай.
Когда с тобою будем мы делиться
И прошлое бессовестно поделим,
Не станем целоваться и стелиться,
Сквозь дикий рай Эстонии полезем.
К ней, лучшей вере, словно в Рим вернемся
Из лютеран, из ереси и плена.
Как скоро мы с тобою отречемся
Сомнений от и станем на колена.
Пора, пора, покоя сердце просит,
Твоей любви на тех же белых пляжах.
Как поздно бросить, поздно взять и бросить
Теперь ты стала самой главной блажью.
Той блажью, что до срока отлежалась,
Не той (ты помнишь), первой пляжной блажью.
Мы начинали все, что получалось,
На всяких пляжах, платных и бесплатных.
1959
***
Чего не ждать. Работы побогаче,
другой жены. И эта хороша.
Ах, лета, лета. Скоро будет лето.
Гляди, душа, кончается февраль.
Моя душа - смешная ротозейка.
Она хотела, чтобы я словчился
и стал (какой бы привести пример)
фотографом на пляже на Таити.
Кругом меня гогеновская слава,
и объектив мой славен, как орел.
Я из лотка неплотную пил воду
в краю, где океан полураспада,
ел рыбу там, она вкуснее нашей,
ухаживал за лошадью, служил.
Потом бывал в других местах.
На юге, во Львове, Пятигорске и Москве.
Я пиво пил из белого стакана
на крепкой облупившейся веранде.
На столике соленые закуски,
кругом деревья, улочки, девицы,
а в садике пустые монументы.
Так мило, так приятно все кругом.
Теперь нельзя мне выйти пополудни,
пойти к реке, подумать: все напрасно,
напрасно все - не в переменах суть.
О стольком я уже не беспокоюсь,
а может, это временный покой.
Не часто, нет, но разное я видел, -
такие страхи, подвиги, слиянья;
и это все со мной происходило,
и, кажется, не изменился я.
Любовь осталсь на моей постели,
мои долги остались на работе,
а смерть моя - у матери моей,
и ангелы летучие, как мыши,
не верь, не верь, а сахар им кроши.
Но дальше невозможно разбираться,
осталось перечислить все отдельно
в любом порядке,
хоть в таком порядке -
- алфавита или календаря.
1961
***
В ресторане "Баку" с витражами,
Где от этого суп голубой,
Дружбу новую мы водружали
Возле столика вниз головой.
Или пиво на каменных досках
Разводили, лениво вертясь,
Или в бухтах курилоостровских
Ничего не прощали простясь.
Что я помню в тоске безответной? -
Как поил нас кудрявый майор,
Или голос небесный - "отведай
Колбасы, это тело мое".
И внезапно мне делалось видно
Разбирая прошедшие дни,
Что там были за красные вина,
Отчего опьяняли они.
Три причастия дружбы отныне -
Это жалкое наше питье,
И консервные банки пустыни,
А венцом: непрощенье мое.
Если вправду я стал безразличен,
погодите - не стоит понять,
Оттого, что фанатик, не зритель,
Я причастен ко всем степеням.
Или так: равнодушнейший зритель,
Я вручаю себя целиком
Вам, друзья. Если голодны - жрите!
Дружба дружбой - шашлык - шашлыком.
1961
***
Младенчество. Адмиралтейство,
мои печали утолив,
не расхлебаю дармоедства,
всех слез моих у слов твоих,
о неподвижный день столетний
с пальбой посередине дня.
Сначала ветер пистолетный
и солнечная толкотня,
а после треугольный вырез,
светлейший там, на островах.
Ты, город, как судьба, навырост,
как долг неверный на словах.
Вот с обтекаемых ступеней
гляжу на дальние мосты,
там движется вагон степенный,
назначенный меня спасти,
возить к раздвоенному дому,
сосватать женщине седой,
пока позору молодому
стоять за утренней слюдой.
Он выследил, нас арестуют
за бессердечие и жар,
в постыдных позах зарисуют,
отпустят, как воздушный шар.
Ударившись о подворотню,
он снова выдаст нас, беда!
Лови меня за отвороты,
тебе в постель, а мне куда.
Согласным берегом куда мне,
рассветной этой чистотой,
буксир развесил лоскутами
знак бесконечности с тобой,
как будто плот органных бревен,
тая дыхание, поплыл,
со всем, что делал, вровень, вровень,
все подбирая, что любил.
1961
***
И.А.Бродскому
Придет апрель, когда придет апрель
Давай наденем старые штаны,
Похожие на днища кораблей,
На вывески диковинной страны.
О, милый, милый, рыжий и святой,
Приди ко мне в двенадцатом часу.
Какая полночь, боже, как светло,
Нарежем на дорогу колбасу,
Положим полотенца под конец.
Какое нынче утро нас свело!
Орган до неба, рыжый органист
Играй мне в путь, пока не рассвело.
Так рано до трамваев и авто
Мы покидаем вялый городок,
Та жизнь уже закончена, зато
нас каменный ласкает холодок.
Какое путешествие грозит,
За черной речкой бледные поля,
Там тень моя бессонная сквозит,
Врени ее - она жена твоя.
Садись-ка, рыжий; в малый свой челнок,
За черной речкой тьма и черный свет,
За черной речкой там черным-черно,
Что одному пути обратно нет.
Я буду ждать вас, сколько надо ждать,
Пока весло не стукнет по воде,
Я буду слезы жалкие глотать
И привыкать к послушной глухоте!
Но ты вернешься, рыжий, словно пес,
Небесный пес, карающий, гремя.
"Я нес ее - ты скажешь, - слышишь, нес,
Но нет ее и не вини меня".
Тогда пойдем вдоль этих тяжких вод
Туда, где по рассказам свел господь
Людей-енотов, ящеронарод
И племя, пожирающее плоть.
Рынок подержанных вещей
Я был вчера на барахолке,
Там продавал жены пальто,
Там винт я видел пароходный,
На нем соленый ободок.
Я мог купить его отдельно,
Но покупать его не стал,
А он был точно неподдельный,
Тот экзотический кристалл.
Картинки голые диванов,
Что так забавно говорят,
Я взял пяточек для романов
И отошел в соседний ряд.
Какие предлагают штуки!
Мундиры черные в значках,
Для чтения крутой науки
Навылет дырочки в очках.
Дымит мышиный крематорий,
Лежит пластическйи скелет,
И патефончик с примадонной
Сосками женскими одет.
Пупки и пальчики на выбор,
Доносов фантики белы,
У одного вертяся выпал
Слепой вампир из-под полы.
Летят желудочные газы
По завитым листам газет
И отдает свои рассказы
Двухспинный парень за обед.
"Послушайте, как это было!"
И он показывает мне
Еврейское живое мыло
И крест молочный на спине.
"А ну-ка, покажи другую", -
я говорю ему тотчас.
"Я нынче этой не торгую", -
Он отвечает щекотясь.
А торг идет, повсюду ладят,
И примеряют башмаки.
Могильное суконце гладят
Полуживые дураки.
1962
***
Забавная осень, над городом свист,
летает, летает желтеющий лист.
И я поднимаю лицо за листом,
Он медлит, летя перед самым лицом.
О, лист, - говорю я, - о лето мое -
О, мой истребитель, смешной самолет.
Воздушный гимнаст на трапеции сна,
О, как мне ужасна твоя желтизна.
Посмертный, последний оберточный цвет.
Что было - то было, теперь его нет.
Ты так говоришь, бессердечно летя,
Воздушное, злое, пустое дитя.
1962
***
Стоит болезнь в стеклянном полумраке,
Стакан журчит отравой и гнильем.
Яснее сна, прилипчивей бумаги
Обосновалась наша жизнь вдвоем.
Она пока ни капли не остыла,
Хотя тревогу ангел пробасил.
Бацилла жизни - нежная бацилла
Сильнее и умнее всех бацилл.
1966
***
А.А. Ахматовой
У зимней тьмы печалей полон рот,
Но прежде, чем она его откроев,
Огонь небесный вдруг произойдет -
Метеорит, ракета, астероид.
Огонь летит над грязной белизной,
Зима глядит на казни и на козни,
Как человек глядит в стакан порожний,
Еще недавно полный беленой.
Тут смысла нет, и вымысла тут нет,
И сути нет, хотя конец рассказу.
Когда я вижу освещенный снег,
Я Ваше имя вспоминаю сразу.
Истинный Новый год
А.Н.
Уже переломился календарь, видна зимы бессмысленная даль,
К морозу поворот и новый год и множество еще других забот.
Держаться надо, надо в декабре, когда снега и сумрак во дворе,
И за окном бесчинствует зима, держаться надо - не сойти с ума.
И надо одеваться потеплей и надо возвращаться поскорей
К себе домой, где греется обед и закрывает вас от всяких бед,
Зимы и вьюги, теплая жена, где все за вас и крик и тишина.
И к двери осторожно подойдя, сказать себе минуту погодя,
"Нет, рано еще, рано, не пора". Зима, зима - ужасная пора.
Шепнуть себе: "А скоро ли?" - "Едва ль". А между тем, поблизости февраль,
И лед уже слабеет на реке и ваш сосед выходит в пиджаке,
И распаляясь говорит про то, - "Мол, хватит, будет, поносил пальто".
Тут надо приготовиться всерьез, хотя трещит на улице мороз,
И инеем карниз совсем оброс, зима крепка, как медный купорос.
Но это только видимость одна. Вот парка отведет с веретена
Последние витки. Апрель, апрель вступает в календарную артель.
Тут надо выйти в сад или в лесок, лучам подставить бледное лицо,
Припомнить все: Египет, Карфаген, Афины, Рим и этот зимний плен
средь четырех своих коротких стен, где жили вы совсем без перемен,
Но тает снег у черных башмаков и ясно вам становится каков
невнятный запах прели и травы - в апреле вы жестоки и правы.
Все ящики, шкапы и сундуки - вплоть до последней потайной доски
раскрыты этим вечером. Конец, на веточке качается скворец.
В последний раз ты за своим столом, в последний раз ты возвратился в дом,
В последний раз пирог несет жена, в стакане поперек отражена,
она уже покинута, она осталась с отражением одна.
Закрой глаза и сделай первый шаг, теперь открой - пусть непонятно как
ты очутился на чужлй земле, в чужом необитаемом селе,
в огромных тошнотворных городах, в которых ты расцвел, а не зачах -
пусть непонятно как добрался ты, твои перемещения просты.
От смерти к смерти, от любви к воде, от стрекозы на женском животе
к чудовищу на сладостном холме,чье тело в чешуе м бахроме.
И далее к просторным островам, на берегу там высится вигвам,
там дочь вождя, кино по вечерам, считаются года по деревам.
И вот уже сосчитан целый лес. Изведаны утехи всех небес:
забвенья сферы, облака тщеты и неба обнаженной красоты,
душистой тучи праздного греха. Но эти сферы просто чепуха,
в сравнении с другими, где душа пороку предается не греша,
а познавая свет и благодать, которых никогда не разгадать.
но в тридцать третьем небе есть порог, за коим веет зимний ветерок,
и мечется поземка и уже окно горит на третьем этаже.
А это значит близится зима. А кто огонь зажег - твоя жена.
Похолодало. Завывает мрак. Ты понял все, когда ты не дурак.
Домой, домой, где печь, постель, cупы. Скорее тот порог переступи.
Тут все как было, точно как тогда - вот на столе обычная еда,
а месяцы прошли или года, тут это не оставило следа.
Пока небесный виден хоровод, в последний раз взгляни на небосвод,
твоя звезда бледнея и дрожа, похожа на лучистого ежа,
в морозной мгле уходит быстро вниз. Она тебя оставила - держись.
В два миллиона зим идет зима. Держаться надо - не сойти с ума.
Уже переломился календарь, видна зимы бессмысленная даль.
1963
Истинный путь вокруг света
И.Б.
Отправиться узенькой речкой, притоком огромной реки.
Так сладкого дыма колечки, буфеты, каюты, звонки.
Сидеть в парусиновом кресле, разглядывая берега,
И мачты спасительный крестик на фоне небес теребя.
А тент мой то скрипнет, то вскрикнет, сирена завоет слегка,
О, я, уплывающий скрытно, зачем моя жизнь не сладка?
Зачем не мужицкая драка, зачем не фамильный запой,
не лета цветущая арка, построенная зимой.
Я рупор возьму капитанский, а губы сердечком сложу,
вдыхая металл скипидарный, я все на прощанье скажу.
- Прощай, мой приятель, ты ешь или спишь,
но утром такая туманная тишь, что ты, вероятно, услышишь.
Прощай, мой приятель, я рад повторять
Все то, что случилось дотошно, подряд.
Когда я отчалю, поедешь и ты
от черной печали до твердой сдуьбы,
от шума вначале до ясной трубы.
И вот наступает слиянье обеих пленительных рек,
сиянье, сиянье, сиянье, отныне и присно - навек!
река меня катит вторая и рыбы глядят изнутри
и плавно хвостом ударяя они повторяют - Смотри,
Тут воды как духи бесплотны, а мы и не рыбы совсем.
а твой пароходик нескладный в реке, точно в тверди засел.
- Прощай же, домашнее диво, мой идол прощай меховой,
спасибо, ты слышишь, спасибо, что я не любил никого,
что если я стану терзаться, не вынесу если стыда,
одна ты ведущим трезубцем погубишь меня навсегда.
И вот я сбегаю по трапу, сажсь в голубое авто,
и все, что имею, я трачу и плачу в крахмальный платок,
Стеклянные улицы эти, коричневый старый кирпич,
как слезы в сургучном пакете песок под ногами хрустит,
Под куполом вьется Спаситель в сандалях и робе своей,
Спаситель, который насытил своих сокрушенных детей.
"- Спаситель, Спаситель, спасибо, ты честно слово сдержал.
Тут очень, Спаситель, красиво, и купол, и фрески, и зал.
Когда Тебе будет угодно, зови, я прикрою дела,
с Тобою, ты знаешь, охотно, как надо, в чем мать родила.
Однако теперь, понимаешь? Все это устроил Ты Сам!
Зачем Ты часы вынимаешь и жутко стучишь по часам?
Пора мне должно быть.
И снова в авто голубом на бегу.
Как первое ясное слово я это лицо берегу.
Пади же, железная штора! Я вижу на мягкой стене,
как скоро, предательски скоро лицо переходит ко мне,
в стекло поглядится и словно помадой подводит губу.
Как самое темное слово я это лицо берегу.
А ночь наступает внезапно и в мутной ее духоте
вплывают и жалость и жадность, две рыбины в пресной воде.
- Глядите, отважные рыбы - аквариум, спальня, дворец!
Все в жизни сбывается, ибо всегда наступает конец.
И та, что к подушкам приткнулась, зарылась в любовь с головой,
не знает, что вновь окунулась в теченье реки круговой.
Братьям Чиладзе
Кутеж над озером. Вечерняя прохлада.
Два гитариста пробуют струну.
Несут цыплят и жирная бумага
Под шашлыком скоробилась в длину.
Вода и горы - вас совсем не видно,
Но ясно: где-то вы недалеко.
И чудно так от сердца отлегло,
И стало так свободно и невинно!
Да что там говорить - я просто пьян,
Меня волна отравленная тянет.
Но это ничего - я, гидроплан,
Взлечу, когда дыханья не достанет.
Перемешаю мясо и чеснок,
Вино и соус, залень и стаканы.
О, Господи, как их не валят с ног
Литровые пустые истуканы?
Иссохший сад дремучего стекла,
Ты разорен, но я в тебе блуждаю,
Я заплутал и около стола
Хозяев, как умею, ублажаю.
"Хотите-ка, ребята, я спляшу,
Хотите выпью? Ну, какая малость?
Куда спешить? Машина поломась!
Я рад! Я раньше будто вас встречал,
Вы оказали важную услугу
В начале. Да, начале всех начал,
Соединив свиданье и разлуку".
На холмах Грузии лежит ночная мгла,
Во тьме кромешной, за столом корявым
Я слышу крик полночного орла
Обиженного встарь орлом двуглавым.
***
Наши завтраки - наше спасение.
Черный кофе, ленивый разгон.
А когда мы спохватимся, боже мой,
Наступает двенадцатый час.
Что припомнилось?
Прежние завтраки,
Незапамятных даже времен.
И берут они друг друга за руки,
Выпуская сырок и лимон.
В этой бедности, в этом убожестве
Различить бы на дальнем краю
Незабвенные тихие почести
И последнюю милость твою.
Табаком затянувшись, растерянно
Я гляжу на пустые места,
В старой чашке ищу отражение,
Не процеженное в уста.
Поручить бы все клапанам газовым,
Затворяя кухонный оплот.
Умереть и воскреснуть до завтрака,
Вознося к небесам бутерброд.
1968
Вана Таллин
Собственность Г.М. Маринской
Взглянуть бы на старое место,
На старые камни взглянуть,
Как старая птица с насеста
Глядит в слеповатую муть.
Когда это, Господи, было!
Хотя бы припомнить сперва.
О, как же меня закрутило,
Пока моя память спала.
Когда бы все точно припомнить,
До пуговиц на рукаве.
Припомнить, как город приподнят,
А башни стоят на горе.
Припомнить, какие ботинки
Влетели в копейку тогда,
А также, какие блондинки
Умами владели тогда.
Как плещется мелкое море,
Как сливки везут на базар,
В каком золотом комсомоле
Я грешную душу спасал.
И комнаты темной убранство,
И тушь от расплывшихся век,
Любви молодое упрямство,
Автобусов дальний разбег.
Явитесь со дна преисподней
Сего семилетья наверх!
Тогда и тебя я припомню.
Дай Бог, не забуду вовек.
***
Троеглавая гидра семейства -
Вот питающий мой чернозем.
Хорошо бы узнать свое место
И остаться на месте своем.
Двух столиц неприкаянный житель,
Поселенец убогих квартир,
Обещаний своих нарушитель
Я давно сам себе командир.
Не обузой бессмертному телу
Становился избыточный вес,
И предался я гневу и тлену
Как пилот, не достигший небес.
О, как тяжко быть мужем и сыном,
Малой дочери скрытым отцом,
Но страшнее остаться рассыльнм
И готовым на все молодцом.
Хватит, хватит, достаточно, полно -
Не скрываю, до вас довожу:
Да, я жил безобразно и подло
И ужасно еще заживу.
Не преступишь границ неприступных,
То ли дело , когда под рукой
Остающийся для бесприютных
Троецарственный женский покой.
Достучуся я утречком рано,
Вы еще не зажжете огня.
Мама, Галя и дочь моя Анна,
Пропустите, простите меня.
1968
***
В пустом и жестоком июле
Среди городских корпусов
Узнать бы, куда повернули
Досужие стрелки часов.
Так тошно и жить неохота,
Совсем не глядеть бы на свет,
А хочется стукнуть кого-то,
Да так, чтобы дали в ответ.
А после запить бы обиду
В шашлычной за грязным столом,
Без всяких претензий к нарпиту
Противным и теплым вином.
Наслушаться брани у рвани,
Вмешаться в дурацкий скандал,
И после закрытья (не ране!)
Пойти на Обводный канал.
Как было даровано много.
Что сталось от этих щедрот!
А спросится грубо и строго,
И мой наступает черед.
Пол-жизни
Среди полугрязной посуды,
На полуприличном белье
Пол-жизни прошло, а по сути
Значительно большая часть.
На лестницах или в прихожих,
Среди коммунальных услуг,
Среди фотографий пригожих,
Среди безобразных подруг,
Среди холодца и томата,
Шинельного злого сукна,
В семеечке старшего брата,
Что смотрит на вас свысока.
В холодных и полных вагонах,
В разболтанных очередях,
На фабрике и на заводах,
На улицах и площадях.
В угарных и мыльных парилках,
В больнице, столице, в кино,
В столовых, на дачах, в курилках.
И было повсюду полно
Таких же, проживших пол-жизни,
И прочих, доживших дотла.
Была ли при всей дешевизне
Кому-нибудь жизнь не мила?
Червонцем ладони касаясь,
Из рук уходила - не смять!
И самым удачным казалось
До нитки ее разменять!
Vita nova
В полночь во дворике тихо курю,
Спать мне пора, я и носом клюю
Словно цыпленок.
Ухнуло где-то на Крымском мосту,
Как меня, бедного, клонит ко сну,
Нету силенок.
Ванну как раз принимает жена,
Что еще надо, какого рожна?
Жизнь отвердела.
Стал я и сам как застывший цемент,
Только усадки заметен процент,
Духа и тела.
Впрочем, все к лучшему. Этот процесс
Должен был вызвать посильный протест.
Нету протеста!
Прежде обидно - полезно потм.
Лучшие стены - железо-бетон -
Место артиста.
Все, что скрывает и пестует плоть,
Тайной надежды надежный оплот -
Наше подполье.
В этой норе нарастает броня.
Тесно сначала, с некого дня
Всюду раздолье.
Лучшая выдумка - трактор войны.
Люки и щели из коих видны
Люди и цели.
Лучший маршрут - напрямик, напролом,
Трактом и боком, огнем и крылом
Без канители.
Черная выдумка - трактор войны.
Впрочем, моей тут и нету вины,
Доля танкиста.
Все-таки лучше ломить напролом,
Слишком преграда густа и притом
Слишком костиста.
Был я курсантом, нашивки носил,
Денно и нощно прощенья просил,
Жил, где придется.
Всюду пускали и гнали меня,
И окликали и ждали меня,
Что за юродство?
В комнате тесной, с окошком в стене,
На юго-западной жил стороне,
Возле Фонтанки.
Тихо, прозвякивает лишь аппарат,
Да в ноябре пробегут на парад
Новые танки.
Радио чешет псалтырь за стеной,
Да в агитпункте удар костяной
Кия по шару.
Утром, бывает, ребенок всплакнет,
Свалятся с полки флакон и блокнот.
Это, пожалуй,
Все, что я слышал и все, что я знал.
Женщину милую взял и разнял,
Но не составил.
Выучил дюжину учеников,
Шесть негодяев, шесть мучеников -
Все против правил.
Даже Иуда был верен Христу,
Даже Пилат изменился к хвосту
Этих событий.
В Рим был отозван наместник Пилат,
Там был уволен и выпил он яд,
Всеми забытый.
Я же уехал навеки в Москву,
Где поселился на Крымском мосту,
Возле Садовой.
Там я бронею покрылся до пят,
Там моя бойня, поход и парад,
Выход мой новый.
1970
Строфа
Нет, не осилить мне жизнь. Ни в какие ворота
она не влезает. И все, что случилось:
молодость, глупость, тщета, неудача, хворобы
всюду со мной - наловчились;
чуть что - выручают, как рвота.
1972
Сборник издания Б.Тайгина (1964)
Край света
О, город последний, где бухта
с названием - Рог Золотой.
Не жить бы так бурно, как будто
умру я совсем молодой.
О, лодки, моторные лодки
и рынок, где крабов полно -
пожизненные обновки
и рынок, и крабы, и все остальное.
Ведь сердцу все хлопать и екать,
дела не считать ни во что.
А что, если снова поехать,
поехать на Дальний Восток!
Военное море, трофейный пароход,
сяду, поеду на Дальний Восток.
Японские волны гуляют в ночи,
по палубам девушки ходят ничьи,
любую иди, уговори,
полюбит еще до японской зари, -
рассвета, который желтей кожуры.
Или надую аэростат,
я улетаю на Дальний Восток.
Оделся, застегнулся, поесть сиганул
к гостинице "Челюскин" (бывшей "Сингапур")...
Какие там ходят матросы,
какие стоят крейсера,
какие там таксомоторы!
Такая кругом красота.
Занять бы там столик у моря,
и пить, пока пьется душе,
и долго бы плавать у мола,
я все это делал уже.
Добрый романс о городе Одессе
А эти улочки
дома поддельные
Такие старые и как во Франции.
А сами улочки стоят под деревом
Идут за деревом не поворачивая.
Они с фонтанами, они за листьями,
Такие улицы, такие лиственницы;
Где море гладкое плывет;
Вот там они,
Уже не улицы, а просто лестницы
Но что мне сделалось, ах эта девочка;
Такая добрая, как наша Франция;
Ах, мы увиделись при свете давеча;
И ходит этот случай празднуя.
Нас пароходы не возят средние,
На них тоска вся пароходная,
Они бегут как волны летние,
Морские пятна перекатывая.
Но мне ведь весело сидеть у города
И целовать тебя у ворота -
И эти зубы твои короткие
и ноги светлые и ровные
И гладить пляжи мне песчаные,
Тебе не сторониться мальчиков,
Где мы сидели, освещенные
Прожекторами темных тральщиков.
26-31 июля 1958 г.
Сретенка
Переулки, что валятся с горки,
разбираюсь в них - дай вам бог,
это место не стоит скорби
или стоит, а я не мог.
Вы, Печатников, Колокольников,
переулочек Бобров,
как печальные алкоголики,
упадающие от ларьков.
Я взойду на кирпичную лесенку
может, с лесенки упаду,
в десять лет упаду на Сретенку
и на Трубную площадь пойду.
Что за площадь, ах нету плоше,
отвратительный пошлый вид,
ты оплошность, Трубная площадь
панорама, рынок и цирк.
Там, где Сретенка - пол-романа,
там, где рынок - военная рана,
там, где цирк - по стене мотоцикл,
черепаховый магазин.
Помню медленное сверкание
ваши цены наперечет,
эта горка - моя Швейцария
я и точно там ни при чем.
Печатников переулок
Москва - ты город круглый,
я не спешу,
пойду я в переулок,
себя спасу.
Спасу от всех обид и бед,
я им зачем служил?
Тут никого знакомых нет,
и я тут жил.
Бульвар спускается с горы,
внизу ограда, цирк и рынок.
Я рад. Москва, как цинк, вдали,
и я твой сын неловкий вымок.
Я так люблю тебя, Москва,
твои пустые захолустья,
что впору там, как у моста
любимейшего, захлебнуться.
Как узость башенок твоих
и бедный лес конструктивистский,
там этот город рукописный
подтаявший добро таит.
Он тает нынче под дождем,
блестит, как цинк, течен на сыне.
Я вырос тут и вот мой дом.
Фигурный вырез вдоль разинут.
Таких причудливых ворот
я не встречал уже лет десять.
О, дом мой, дом двадцать второй,
кругом так тихо ездят дети.
Что мне спасаться, что грустить,
что грустно жизнь моя сложилась,
ходить сюда, пускай хрустит
Москва под туфлей, чем случилось.
Как было, это все равно,
какая разница, ей-богу,
ведь остается лишь одно, -
дышать прошедшим понемногу.
Романс про улицу Герцена
Без всяко лишней ловкости
Я жил и не платил,
В Москве в последнем августе
В трех комнатах один.
Что мог хозяин вывинтил,
Загнал и поменял.
А сам уехал в Индию,
Не зная про меня.
Цвели обои в комнатах
И делались белей.
Особенно на контурах
Пропавших мебелей.
На кухне света не было,
Там газ светил ночной,
Я более нелепого
Не видел ничего.
Одно трюмо дежурное
Уперлось в потолок,
Столетнее безумное
Оно не поддалось.
Как жил я в этих комнатах,
Так не живу сейчас,
Там был букет, обмокнутый
В чужой китайский таз.
Теперь скрывать мне нечего,
Там было хорошо,
Там по паркету девочка
Ходила голышом.
Хоть важно, чтоб изысканно,
Но все - так все равно.
Ах, было бы грузинское
Столовое вино.
Хоть с булкой, хоть с отварами
Я все их так хвалил,
И в окна, как в аквариум,
Вечерний свет входил.
И коната померкшая
Была еще пустей.
Одно трюмо неверное
И новая постель,
Глядела в окна девочка,
Столярный клей блестел,
Красивая раздетая
С лучами на лице.
Лучи кидались в зеркало
С московской мостовой,
Кино зеленосерое
Играло за тобой.
Ты целовала сердце мне,
Любила как могла,
За улицею Герцена
Вся обмерла Москва.
Я жил на этой улице,
Там к счастию привык,
И размышляю с ужасом
Об улицах иных.
Лермонтов
Тут люди своий отдых проводят
средь оздоровительных дел,
и многие в домик приходят,
где им объясняют дуэль.
Не тошно ль писать и рубиться,
плясать (он балы обожал)?
И если б не это убийство,
то в Турцию хоть убежал.
От мебели синей в полоску,
квартплаты своей - сто рублей.
Поди поживи в Пятигорске,
и там никого не убей!
О, Лермонтов, бедное тело,
когда застрелили тебя,
где нынче и авто и вело
туристы съезжаются для
упреков и жалости явной,
и кино- и фотокартин.
За час бы до смерти неравной
ты дома остался один,
собрал бы гусарские вещи
и тихо ушел на вокзал -
- в избу, где при темени вечной
тебя бы никто не сыскал.
***
О господи, льдинами, льдинами
плывет и качает вода,
какими предместьями длинными
в апреле сойдут города.
Как просто, как пусто, как маятно,
как звать тебя, счастье мое,
о милая, волосы мятые
и вся, как сужой самолет.
Веди, если хочешь, хоть рынками,
хоть парками, только веди,
кричи, хоть словами, хоть криками,
хоть спичками ночью свети.
Веди через черные рощицы,
рассказывай про учениц,
ты, милая, просто настройщица,
пришла молоточки чинить.
Совсем кругом под этот мел и блеск на плитах
начерчены квадратики для всех
идем, идем, как будто демонстрация, как лошади с
никелированною пушкой играющие простодушный марш.
О милая, куда мы денемся,
когда июнь придет, разденемся,
наденем скромные плащи,
не говори о них, о теннисе, о лете,
не повторяй сплошные сплетни,
о милая, куда мы денемся?
Ногами празднично плещи.
***
Когда я студентом, студентом,
зеленым механиком был,
Я часто по плиткам студеным,
По садикам невским ходил.
Ушанка в проборы мне терлась,
Высоко лежала река,
И финская зимняя твердость
Усепхи мои берегла.
Повсюду стояли фигурки
Ледовые будущих лет,
И старые эти прогулки -
Единственный мой амулет.
А нынче сырая погода
И видно так недалеко,
Что выпасть из общего хода
Нас не остановит никто.
Ступать бы по улицам мокрым,
По желтому свету души,
Представить счастливым и мертвым
Себя в петербургской глуши.
Когда новогодний снежочек
Как ангел правдив и хорош,
Ты только мешочник, мешочник...
Дурак, если не наберешь!
Быть может, мы переболели,
Теперь соберем пополам
Свободные эти панели,
Сто раз присягавшие нам.
***
Крестовский и Петровский,
и полуострова,
как тамбур папиросный,
проехала страна.
Но мне не пособили
свисток и кипяток,
как ехал по Сибири,
все говорил - потом.
Гармошка и картошка,
летение лесов.
Билетная картонка -
по буковке лицо.
Буквальное, овальное,
такое, как мое,
казенные, невольные,
купли самолет.
А я бы хоть обозом,
хоть в меховых санях,
в дороге хоть разбоем
сумел себя занять.
Как гладко и как просто
все говоришь - потом,
пока Крестовский остров
еще в краю ином.
Как стыдно и ужасно
все говорить тогда -
там синие лужайки,
иные города.
Там синенькое море
и красный пароход,
и с той поры помалу
сносилось барахло.
Все перетасовалось,
ходы наперечет,
но все-таки остался
дорожный дурачок.
колодники мешают
колоду дальних карт.
Бывает, мне мешает
цветы и тени карт.
Апр. 1961 г.
***
Я этим летом правил, правил,
на белых горевал песках,
все остальное время плавал
и спал, как спится на постах.
Вначале слабый сладкий город,
где давит семечки завод,
где можно жить на помидорах
и украшать черешней рот.
Как на постах. О, жесткий, жесткий,
неустрашимый этот сон,
о, этот мол и мел азовский,
полдневных побережий сор.
Когда я в шапочке и плавках
ступал на золотое дно,
во всех открытиях и прятках
мне виделось одно, одно.
Зачем из прелестей необщих
куется роковая цепь,
где каждое звено наощупь
предоставляет жизни цель.
А воедино, воедино
все это только темный груз -
азовский пляж, полет блондинок,
кислятина колхозных груш.
Пока у бедного швербота
лежит умытая душа,
пойми, то славная свобода
одна на свете хороша.
***
Я жил по этим лагерям,
По этим дюнам пионерским,
По этим мяконьким горам
И склонам нежнопиренейским.
Залив с Кронштадтом на боку,
С маневрами флотов неслышных,
Мне так скользилось на бегу
у валунов твоих осклизлых.
Под вечер выходил отлив,
Приподнималось дно, белея,
Я становился не болтлив,
Тихонька маясь и болея.
В кровосмесительном огне
Полусферических закатов
Вторая жизнь являлась мне,
Ладони в красный жир закапав.
Я угадал ее тогда,
Жизнь, непрожитую нисколько.
Ведь я не падал, хоть вода
Мне пятки слизывала скользко.
"Ступай и дальше, - говорю, -
По буму наобум бесплатно,
На половицу, на зарю
Среди залива и заката!"
***
Э.Неизвестному
О, юноша в багровом танке,
Ты лепишь юную войну,
Ты жрешь трофейные остатки
И делишь общую вину.
Вертя своей спиной убитой,
Раздетой возле голых дам,
Свой тухлый бант, как бинт навитый,
Ты важно носишь по рядам.
Война как балки их согнула,
Как швы нательные свела.
Вот у стены стоит скульптура,
Р уками сердце шевеля.
Но ряд окончен! Вот разлука!
Пол пограничный полосат.
Что появляется из люка,
Где мается полураспад.
Чья голова теперь рубима,
Твоей казниться или той?
Она завоет, как турбина,
И размешается с тобой.
1959
Илье Авербаху
Я видел сон, где ты бесстрашно
в тяжелом свитере ходил
и говорил со мною странно,
как никогда не говорил.
Илья, ты станешься богатым,
достанешь дом на берегу,
и в доме модном и поганом
все двери будут на бегу.
И то, что нас еще пленяет,
ты раздаешь уже с крыльца.
И птица пыльная склоняет
любви и славы два крыла.
Она сидит на радиаторе
твоей машины легковой,
а талисманы бородатые -
внутри кабины роковой.
Как представляешь ты крещение?
(Друзья не предупреждены).
Как представляет ты крушение
и смерть в дороге без жены?
Как представляешь спорт безвыходный,
костюмы стройные до слез?
Переставляешь ход невыгодный
и думаешь, что обошлось?
Ах, эти сны, все сны неполные,
в них мало правды на виду,
одни слова твои все помню я.
И повторяю раз в году.
1960
***
Ты стала ночью белой,
А прежде чем была?
И это месяц целый
Слабела добела.
Зачем же крыши, воды
И этот страшный свет,
Мне говорили - вот ты,
А выходило нет.
Ты стала белой ночью,
Руками хрусталя,
И я тебя как ноту
Учить не уставал.
Так объясни значенье
Того, как спал и пил,
А по ночам на черни
Все, что хотел, белил.
Ты выступала первой
Из белой темноты,
Была ты белой, белой,
И вот вернулась ты.
***
Как мало надо. Невский пароходик.
Печальный день. Свободная печаль.
Какой-нибудь мотивчик похоронный.
Какой-нибудь разболтанный причал.
Рогатый лист мне гороскопы кажет,
Собака в подворотне так добра.
Сейчас поднимет голову и скажет -
"Я за тобой, готов ли ты? Пора".
Как мало надо. Этот город шаткий,
Качание от хлеба и вина.
И летний дым, то горестный, то сладкий,
Окоп по пояс - вот моя страна.
Вы, милые военные забавы,
Смешные офицерские ремни,
Смешные петроградские заставы
Все нынче в этот дым погружены.
Всего лишь пароходик. Вот избушка
петровская открылась мне отсель.
Бутылка пива. Атомная пушка.
И пылкая валькирия в постель.
Дата публикации: 30.09.2010, Прочитано: 30043 раз |